Библиотека
Теология
КонфессииИностранные языкиДругие проекты |
Ваш комментарий о книге Величковский Б. Когнитивная наука: Основы психологии познанияОГЛАВЛЕНИЕГЛАВА 6. КАТЕГОРИЗАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ6.1 Формальные и эмпирические подходы
6.2 Категориальная организация знаний
6.2.2 Роль примеров и ситуативных факторов
|
|
16
Рис. 6.1. Знаменитая карикатура, впервые опубликованная журналом New-Yorker, иллюстрирует трудности экспликации пространственного знания.
для интроспекции и речевого отчета. Однако это предположение не вполне верно: значительная часть специальных практических знаний экспертов в соответствующих предметных областях имеет интуитивный характер (см. 8.3.3). В информатике и работах по искусственному интеллекту интуитивное знание считается процедурным (знание «как?»), а структурированное и коммуницируемое — декларативным (знание «что?»). Как мы видели в предыдущей главе, это различение повлияло на современные нейропсихологические модели систем памяти, причем семантическая память была отнесена к категории механизмов сохранения декларативного знания. В силу того, что наши знания в значительной степени имплицитны и включены в процессы активного взаимодействия с окружением, этот уровень когнитивной организации (выше мы назвали его уровнем концептуальных структур, или уровнем ? — см. 5.3.3) следовало бы описывать не только в декларативных, но и в процедурных терминах.
На самом деле, некоторые авторы в когнитивной науке уже давно предлагают трактовать семантические компоненты, образующие значение понятий, как перцептивные и когнитивные операции (процедуры), позволяющие соотносить данное понятие с референтными ситуациями и использовать его в некотором контексте. Одним из первых такое предложение выдвинул немецкий лингвист Манфред Бирвиш (Bierwisch, 1970). Оно развивалось в 1970-х годах в рамках так называемой процедурной семантики, представленной работами Т. Винограда, Ф. Джон-сон-Лэйрда, Дж. Миллера и ряда других исследователей. Близкая трактовка внутреннего лексикона — долговременной памяти на отдельные слова, корневые морфемы и устойчивые, имеющие самостоятельное значение словосочетания (типа пословиц и поговорок) — дается и в современных лингвистических теориях понимания и порождения речи (см. 6.1.3 и 7.3.2).
Преимущество процедурного подхода к значению состоит прежде всего в том, что он позволяет учитывать контекст использования знания. Самые первые работы этого направления доказали возможность установления четкого соответствия между феноменами восприятия и использованием тех или иных языковых конструкций. Например, ситуации возникновения явлений феноменальной причинности, изученные в первой половине 20-го века бельгийским гештальтпсихологом Альбером Ми-шоттом4, могут быть, как показали в своей фундаментальной работе
![]() 4 Классические исследования Мишотта были направленные на проверку теории при
4 Классические исследования Мишотта были направленные на проверку теории при
чинности Локка и Юма, отрицавшей возможность непосредственного восприятия причин
ной связи двух событий (см. 1.1.2). Эксперименты Мишотта доказывают обратное, а имен
но описывают условия, при которых чисто оптическое сближение и «соприкосновение»
двух зрительных объектов на экране уверенно воспринимается наблюдателями как «тол
чок» и «передача импульса» движения. Для восприятия подобной феноменальной причин
ности необходимо, чтобы не позднее чем через 100 мс после момента соприкосновения,
произошло бы характерное изменение скорости движения этих объектов (см. 3.1.2). 17
«Язык и восприятие» Джордж Миллер и Филипп Джонсон-Лэйрд (Miller & Johnson-Laird, 1976), систематически соотнесены с глаголами, описывающими различные формы механических взаимодействий объектов.
Другим достоинством процедурной семантики является то, что понятия трактуются здесь не только как конъюнктивные, но и как дизъюнктивные сочетания исходов перцептивных и когнитивных операций. Данный подход может быть распространен на понятия, отдельные представители которых не имеют инвариантного — необходимого и достаточного — набора признаков. Классическим примером служит понятие «игра», включающее «детские игры», «Олимпийские игры», «карточные игры», «игры животных», «игры в мяч» и т.д. (этот пример предложен знаменитым австрийским логиком, философом и лингвистом Л. Витгенштейном — см. 6.2.2). Любопытно, что усилия и реальные достижения процедурной семантики фактически связаны с разработкой референтной теории значения, под знаком критики которой сто лет назад создавалась современная формальная логика. Дальнейшее развитие этого подхода могло бы помочь распространить процедурные описания, используемые главным образом при изучении восприятия и сенсомотор-ных координации, на семантическую память. В конце этого раздела мы рассмотрим некоторые новые нейропсихологические данные, которые говорят о возможности такого обобщенного использования процедурной интерпретации.
Имплицитное знание представляет собой серьезную проблему с точки зрения более традиционных семантических подходов, ориентирующихся на формальную логику. Дело в том, что в логической семантике критерии выделения понятий («семантические компоненты», «постулаты значения» и т.д.) обычно задаются в явном, эксплицитном виде. В последние годы в когнитивных исследованиях возникли и, отчасти, уже получили значительное распространение новые междисциплинарных подходы, ведущие к построению математических моделей, в которых имплицитное знание неожиданно получает достаточно естественную интерпретацию.
Первый тип современных моделей, возникший в 1980-е годы в нейроинформатике и части когнитивных наук, основан на использовании различных вариантов неоднократно упоминавшихся выше искусственных нейронных сетей. Они отличаются от семантических сетей, используемых в традиционной когнитивной психологии и в работах по искусственному интеллекту, гомогенностью связей между узлами и, самое главное, способностью к простым формам обучения (рис. 6.2). Путем целенаправленного обучения сети (например, с помощью метода обратного распространения ошибки — см. 2.3.3) часто удается добиться довольно полного соответствия предсказаний этих моделей данным психологических экспериментов и нейропсихологических наблюдений. Нейронные сети демонстрируют категоризацию стимульных ситуаций, способность правильно «узнавать» слегка измененные варианты вы-18 ученных ранее понятий, а также разнообразные ассоциативные эффек-
|
добрый большой живой |
ISA есть может |
живое существо
растение
животное
дерево
цветок
птица
рыба
сосна
дуб
роза
астра
дятел
канарейка
карась
лосось
живое существо
растение
животное
дерево
цветок
птица
рыба
растет
движется
плавает
летает
поет
лай
ветки
лепестки
крылья
перья
размеры
жабры
листья
корни
кожа
Рис. 6.2. Нейронная сеть, репрезентирующая понятия в семантической памяти (по: McClelland, 2000).
ты типа семантического прайминга. Знание представлено в моделях нейронных сетей в неявном, «субсимвольном» виде, а именно как совокупность градуально меняющихся в ходе обучения порогов активации отдельных формальных нейронов и всей сети в целом.
Другой подход, представленный латентным семантическим анализом (LSA — Latent Semantic Analysis) и гиперпространственным аналогом языка (HAL — Hyperspace Analogue to Language), возник в вычислительной лингвистике и разделе информатики, занимающемся базами данных. Этот подход имеет эмпирический характер, хотя он и не был связан первоначально с психологическими исследованиями. Исходным материалом при подобном анализе становятся разнообразные тексты. Модели значения слов строятся на базе компьютерной обработки огромных массивов текстов (подборок газет, энциклопедий, протоколов парламентских слушаний), обычно включающих не менее десятка миллионов слов. При этой обработке изначально учитывается только близость слов друг другу в линейной развертке текста (Landauer & Dumais, 1997). По сути дела, речь идет о построении базы данных ассоциативных связей
слов с учетом их непосредственного словесного окружения. Матрицы близости слов обрабатываются с помощью факторного анализа, после чего значение слова описывается как вектор в пространстве нескольких сотен (как правило, порядка 300) далее неспецифируемых, то есть в известном смысле имплицитных измерений.
Без всякой подгонки параметров, характерной для нейронных сетей, эти более или менее «вслепую» построенные модели демонстрируют интересные результаты, такие как предсказание величины прайминг-эф-фектов, а также успешности метафорического сравнения понятий (метафорические сравнения, например, «Наш начальник — акула», особенно проблематичны для моделей дискретных семантических маркеров — см. 7.4.2).
Следует отметить, что эти многомерные пространственные модели выявляют не только общее семантическое сходство разных слов (например, «улица», «дорога» и «путь»), но и близость грамматических форм одного и того же слова между собой («путь», «пути», «путем» и т.д.), хотя, как легко понять, такие грамматические формы практически никогда не встречаются рядом внутри одного предложения5. Причина этого последнего эффекта состоит в том, что оценка сходства слов при латентном семантическом анализе осуществляется посредством вычисления глобального сходства контекстов во всем массиве текстов, Если эти новые данные получат подтверждение в дальнейших исследованиях, то это может означать необходимость возвращения к дискуссиям, сопровождавшим возникновение когнитивного подхода (см. 1.3.3 и 7.3.1), поскольку возможность выделения грамматических форм и правил на базе информации о линейной близости слов в предложении изначально отрицалась генеративной грамматикой.
Еще один, совсем новый, но, судя по всему, перспективный подход основан на использовании для представления знаний геометрических моделей, восходящих к работам великого русского математика Николая Ивановича Лобачевского (1792—1856). Отказавшись от 5-го постулата Евклида («Через точку, лежащую вне прямой, можно провести одну и только одну параллельную ей линию»), он открыл возможность рассмотрения геометрии на поверхности стягивающихся в точку или, например, гиперболически расширяющихся тел. Если в начале 20-го века была обнаружена полезность этих моделей для описания связанных с теорией относительности космогенических представлений, то начало 21-го века демонстрирует их применимость в области когнитивных исследований, а именно при моделировании концептуальных структур. Иллюстративный пример приведен на рис. 6.3, где плотность упаковки и количество объектов возрастает на периферии пространства. Не так ли работает и
![]() 5 Для количественной оценки сходства значений двух слов в латентном семантичес
5 Для количественной оценки сходства значений двух слов в латентном семантичес
ком анализе вычисляется косинус угла, образованного соответствующими векторами. По
добно обычным коэффициентам корреляции, он варьирует в диапазоне от 1 (полное со
впадение) до 0 (ортогональное положение векторов). Значение словосочетания (фразы,
предложения) вычисляется путем определения векторной суммы значений составляю-
20 щих слов (см. 7.3.2).
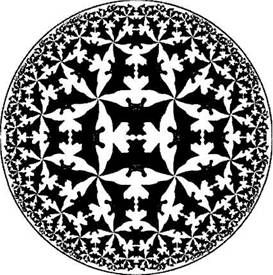
Рис. 6.3. «Граница круга IV» Морициуса Эшера как художественная иллюстрация нового подхода к представлению знаний в пространствах с неевклидовой геометрией.
наш мысленный взор, отчетливо выделяя один-два объекта и оставляя невообразимо сложную паутину потенциально доступных связей и отношений на периферии сознания?
Именно эти свойства неевклидовых моделей были использованы недавно немецким нейроинформатиком Хельгой Риттером (Ritter, 2004) для моделирования функций внимания, способного контекстуально связывать выделяемую сознательно единицу опыта с ее имплицитным концептуальным окружением. Предложенный им инструментарий называется гиперболическими самоорганизующимися картами (Hyperbolic Self-Organizing Maps). Элементы искусственных нейронных сетей осуществляют здесь дискретизацию гиперболического пространства, особенностью которого является экспоненциальный рост объема при увеличении дистанции от начальной точки. Это увеличение объема используется для размещения дополнительных репрезентаций, а также для увеличения размерности их связей. Самоорганизующиеся карты моделируют далее эффекты сдвига фокуса внимания, ограничивая детальность и размерность выделяемого в данный момент фрагмента. Емкость упаковки может, таким образом, сочетаться с относительной легкостью навигации (browsing) и поиска данных (data mining), основанных на сдвигах внимания. Гибкая настройка семантических связей в этом подходе должна обеспечить в будущем интуитивно понятный и технологичный формат представления исключительно больших массивов знаний (см. 7.4.3).
21
Существуют две основные линии собственно психологических исследований семантической памяти и организации знания. Первая линия представлена классическими экспериментами по категоризации — выявлению и заучиванию правил сочетания признаков объектов, положенных экспериментаторами в основу их классификации. Простейшие из числа подобных обучающих экспериментов были начаты еще представителями Вюрцбургской школы психологии мышления, продолжены Кларком Халлом и Л.С. Выготским и, наконец, перенесены в когнитивную психологию Джеромом Брунером (см. 2.1.3). Обычно для этих экспериментов характерны произвольный выбор признаков, использование их условных комбинаций в сочетании с бессмысленными названиями соответствующих категорий. Несмотря на явную искусственность, эти работы выявили некоторые интересные особенности онтогенетического развития обучения и категоризации, а также сравнительную трудность работы с различными формами комбинации признаков. В частности, заучивание и применение дизъюнктивных правил оказалось значительно более сложным, чем конъюнктивных.
Важной модификацией этого подхода в последние 10—20 лет стало изучение так называемого имплицитного обучения, когда испытуемый должен выполнять некоторую, обычно сенсомоторную работу, не подозревая, что вариативная последовательность событий подчиняется определенному правилу (см. 5.4.1). Вопрос состоит в том, возможно ли выделение этого скрытого правила и его эффективное использование в деятельности без отчетливого, эксплицитного осознания. Результаты различных экспериментов не всегда совпадают, что связано с большим количеством переменных, влияющих на решение подобных задач. В целом имеющиеся данные позволяют положительно ответить на поставленный выше вопрос, но с одним существенным уточнением. Для имплицитного приобретения процедурных знаний осознание действительно не обязательно, но, похоже, обязательно участие внимания: любые дополнительные задачи, отвлекающие внимание испытуемых, делают имплицитное научение невозможным независимо от числа повторений6. Кстати, как отмечалось в предыдущей главе (см. 5.1.3), имплицитное научение может наблюдаться и у пациентов с амнестическим синдромом.
Вторая линия исследований семантической памяти связана с анализом разнообразных эффектов семантической близости слов и понятий. К
![]() 6 Этот факт нельзя использовать как аргумент в пользу моделей ранней селекции (см.
6 Этот факт нельзя использовать как аргумент в пользу моделей ранней селекции (см.
4.1.2), поскольку при имплицитном обучении речь идет о выявлении регулярности пос
ледовательностей и критической является возможность сравнения между собой событий,
разделенных относительно продолжительными интервалами времени. Вполне возмож
но, что при отвлечении внимания переработка изолированных событий сохраняется (то
есть имеет место поздняя селекция), а нарушается только интеграция этих событий во вре-
22 мени (Craik, 2002).
их числу относятся, например, ассоциативные прайминг-эффекты: предъявление слова «вилка» или реальной вилки ускоряют узнавание слова «ложка». Самый существенный результат исследований влияния преднастроики на процессы категоризации и понимания заключается в выявлении двух фаз обработки семантической информации при чтении: 1) быстрой параллельной активации нескольких возможных значений слова; 2) селективного подавления тех интерпретаций, которые не соответствуют общему контексту предложения (см. 4.3.2 и 7.2.3). Как ни важны данные эффекты для понимания механизмов функционирования семантической памяти, часто они связаны лишь с относительно «точечными» воздействиями, которые не позволяют сами по себе описать глобальную организацию знания. С целью реконструкции отношений между отдельными понятиями и построения метрических (семантические пространства) или топологических (семантические сети и деревья) моделей семантической памяти широко используются процедуры многомерной статистики.
Инициированные Чарльзом Осгудом исследования семантических пространств значений слов (см. 2.2.1) были продолжены в последующие годы, превратившись в одно из основных направлений когнитивной психологии — удачно названное В.Ф. Петренко (1983) психосемантикой. Основой для многих исследований послужило применение таких статистических процедур, как многомерное шкалирование и иерархический кластерный анализ. Наряду с факторным анализом они используются для построения метрических и топологических моделей систем семантических признаков, понимаемых как «факторы», «маркеры» или «измерения» этих конструкций. Главная проблема здесь часто состоит не в отсутствии средств статистической обработки, а в их избыточности и трудностях последующей интерпретации результатов. Так, одним из приемов изучения организации семантической памяти является анализ группировки понятий при полном воспроизведении списков слов. На основании протоколов воспроизведения строятся матрицы попарной близости отдельных слов, а затем используется одна из методик многомерного анализа, позволяющая «реконструировать» структуру соответствующего участка семантической памяти. Выбор определенной методики шкалирования (для этих целей сейчас используется свыше десяти методик) отчасти предопределяет и тип модели (рис. 6.4).
Процедуры многомерного шкалирования позволяют устанавливать метрические отношения между объектами, используя порядковые оценки, сведенные в матрицы близости/ сходства7. Р. Шепард (Shepard, 1962),
![]() 7 Одна из трудностей применения многомерного шкалирования в психологии связана
7 Одна из трудностей применения многомерного шкалирования в психологии связана
с тем, что этот метод предполагает обратимость оценок сходства (близости) сравнивае
мых объектов, тогда как в действительности они часто необратимы. По этой причине мы,
например, легко соглашаемся с утверждением, что «Эллипс — это примерно круг», тогда
как утверждение «Круг — это примерно эллипс» вызывает у нас чувство протеста. Подоб
ные эффекты характерны для любого структурированного множества, имеющего «фо
кальные», или «прототипические», элементы (см. 6.2.2). 23
Протоколы воспроизведения
Матрицы близости
кошка |
тигр |
лев |
кошка |
собака |
лев |
тигр |
собака |
|
собака |
кошка |
козел |
|
кошка |
собака |
баран |
|
|
баран |
лев |
|
|
козёл |
тигр |
|
|
жираф |
жираф |
1 2
![]()
цепочки |
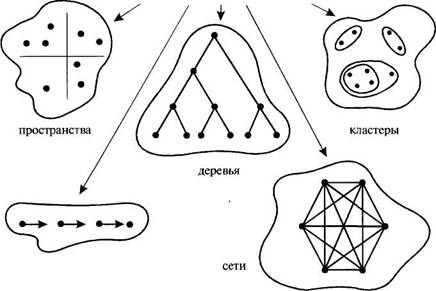 структурные модели семантической памяти
структурные модели семантической памяти
![]() Рис. 6.4. Разновидности структурных моделей семантической памяти, создаваемых на основе анализа матриц близости/сходства.
Рис. 6.4. Разновидности структурных моделей семантической памяти, создаваемых на основе анализа матриц близости/сходства.
24
в частности, показал, что если существует матрица порядковых оценок близости 20 городов, то применение многомерного шкалирования позволяет выявить имплицитно содержащуюся в этой матрице метрическую информацию о расстояниях между этими городами и даже об их взаимном положении. Действительно ли существуют подобные когнитивные карты, и если существуют, то в какой форме — это уже другой вопрос, интенсивно обсуждаемый по сегодняшний день (см. ниже 6.3.2). Пространственные аспекты таких моделей сами по себе не могут приниматься буквально, свидетельством чему служит тот факт, что всякую точку и-мерного семантического пространства можно заменить без потери
|
Рис. 6.5. Иерархический кластерный анализ. А — пример обработки и соответствующая кластерная структура для условного набора из пяти объектов: Б — результаты оценки сходства 8 животных (б — бабочка, к — комар, кр — крокодил, крыс — крыса, крол — кролик, л — лебедь, лм — летучая мышь, ч — черепаха) девочкой четырех лет и взрослым образованным мужчиной (Michon, 1972).
общности представления вектором из ? упорядоченных величин. Значение при этом оказывается пучком семантических признаков, как оно и понималось обычно в компонентных теориях значения, например, в теории Катца и Фодора (см. 2.2.1 и 6.1.1). Многомерное шкалирование применялось для описания различных семантических областей: названий оттенков цвета, терминов родства, местоимений, эмоций и черт личности, глаголов обладания и оценки, профессий и т.д.
Иногда преимущество отдается процедурам иерархического кластерного анализа, являющимся простейшим способом описания категориальных структур. В одной из ранних работ были, например, показаны возрастные различия субъективной категоризации видов животных (Michon, 1972). При этом использовались изображения и названия восьми животных: бабочка, комар, черепаха, крыса, летучая мышь, крокодил, лебедь и кролик. Для каждой случайно выбранной из этого набора тройки животных нужно было определить двух самых похожих и двух самых непохожих. Через несколько дней эксперимент был повторен. Данные 2x56 проб были сведены для каждого испытуемого в матрицу сходства, причем каждой похожей паре приписывалось два балла, а нейтральной — один. Затем был проведен иерархический кластерный анализ (см. рис. 6.5А). Эта процедура отчетливо выявила возрастные различия классификационных схем: для ребенка существенными были аффективные атрибуты «хороший» и «кусается», а для взрос-
25
лого — формальная принадлежность к различным биологическим типам и классам (рис. 6.5Б)8.
Далеко не все авторы удовлетворены таким подходом к изучению категориальной структуры семантической памяти. Как пишут Эва и Герберт Кларк, «есть изрядная доля иронии в том, что как раз объективность этих методов составляет их главный недостаток. Когда людей заставляют проецировать их знание семантических отношений на пяти-или десятибалльную шкалу сходства, они начинают игнорировать тонкие различия в значениях слов. А усреднение результатов множества таких оценок лишь затемняет оттенки значения. Еще более серьезные трудности связаны с тем, что люди неизбежно меняют свои критерии "семантического сходства", когда переходят от одной пары слов к другой» (Clark & Clark, 1977). Эти авторы отмечают и другие недостатки пространственных моделей, в частности, невозможность учета качественной специфики семантических отношений между различными понятиями, а также трудности определения значения предложений на основании одних только глобальных оценок семантического сходства входящих в него понятий.
Распространенным подходом к изучению семантической памяти является анализ хронометрических данных по верификации некоторых простых утверждений. При этом было получено огромное количество данных (см. 6.2.1). Так, оказалось, что за время порядка одной секунды, испытуемые могут установить правильность предложения «Дятел — это птица» или найти растение, название которого начинается с буквы «п». Столь небольшое время было бы невозможным, если бы не высокая эффективность доступа к лексическому знанию. Еще более удивительно, что мы способны примерно за то же самое время определить отсутствие слова «мантинас» среди 105 известных нам слов родного языка9. Ведь если память понимается как некоторая емкость для размещения репрезентаций, то использование ее содержаний предполагает про-
![]() s Следует отметить, что, согласно современным исследованиям познавательного развития, дети очень рано (3—4 года) и без специального обучения оказываются способны к пониманию родовидового принципа классификации биологических объектов. В этой специфической предметной области можно, следовательно, констатировать известное сходство принципов организации развивающихся спонтанно наивных понятий и научных понятий, формирующихся несколько позже и под целенаправленным контролем взрослых (см. 6.4.3).
s Следует отметить, что, согласно современным исследованиям познавательного развития, дети очень рано (3—4 года) и без специального обучения оказываются способны к пониманию родовидового принципа классификации биологических объектов. В этой специфической предметной области можно, следовательно, констатировать известное сходство принципов организации развивающихся спонтанно наивных понятий и научных понятий, формирующихся несколько позже и под целенаправленным контролем взрослых (см. 6.4.3).
9 Речь идет здесь о задаче лексического решения. В большинстве психолингвистических
моделей внутренний лексикон, фиксирующий характеристики слов, а также некоторых
более дробных (например, корневые морфемы и суффиксы) и более крупных (идиомы)
единиц языка, описывается как сетевая структура, каждый узел которой связан по край
ней мере с одним узлом семантической памяти. Близость узлов лексической сети опреде
ляется сходством звучания и/или визуального облика соответствующих слов (см. 7.1.2).
В когнитивной лингвистике внутренний лексикон часто наделяется также функциями
26 грамматического структурирования высказывания (см. 7.3.2).
Как и все другие разделы когнитивной психологии, исследования семантической памяти испытывают сегодня особенно сильное влияние со стороны нейрофизиологических и нейропсихологических подходов. Эти новые данные не заменяют результаты собственно психологических работ, но позволяют в ряде случаев скорректировать устоявшиеся представления. Один из относительно стабильных нейропсихологических результатов, многократно подтверждавшийся в исследованиях пациентов со старческой двменцией и болезнью Альцгеймера, состоит в том, что нарушения в работе мозга (они затрагивают в данном случае главным образом ассоциативные области коры — см. 5.4.3) могут проявляться в ухудшении точности семантической категоризации при сравнительной сохранности собственно речи и чтения. Пациенты делают ошибки в назывании даже таких типичных объектов, как ложка или яблоко. Эти ошибки, однако, имеют характер парасемантического смешения, отражая таким образом правильное угадывание общей категориальной принадлежности предметов: ложка вполне может быть названа «вилкой», а зубная щетка — «расческой»10.
Относительная сохранность общих семантических категорий проявляется и в том, что иногда пациенты с болезнью Альцгеймера как бы упрощают себе задачу, например называя чайку «птицей», а березу «деревом». Складывается впечатление, что селективно страдает именно конкретное знание, хотя этот вывод должен быть еще проверен в экспериментах с семантическим праймингом — такие эксперименты могли бы исключить возможность имплицитного сохранения сведений о конкретных понятиях. По мере развития заболевания затруднительной становится и глобальная категоризация, так что в конце концов семантическая оценка и сравнение объектов начинают все больше зависеть просто от их очевидных перцептивных характеристик, например признака
![]() 10 Ошибки парасемантического смешения наблюдаются и в ряде других случаев: у здо
10 Ошибки парасемантического смешения наблюдаются и в ряде других случаев: у здо
ровых испытуемых при жесткой обратной зрительной маскировке предъявляемых для уз
навания слов (см. 3.1.3) и при попытках чтения пациентами с синдромом так называемой
глубокой дислексии, связанной с поражениями левых височно-затылочных областей коры
(см. 7.2.2). 27
«большой». В целом, данные об особой роли общих категорий соответствуют предсказаниям моделей семантической памяти, построенных на базе нейронных сетей, поскольку в этом случае сохранение абстрактных понятий имеет более распределенный характер и обеспечивается максимальным числом узлов сети. Напротив, некоторые другие известные модели (такие как теория понятий базового уровня — см. 6.2.2) испытывают трудности в объяснении подобных клинических наблюдений.
Значительный вклад нейропсихология внесла в выявление различий кортикальных представительств отдельных областей семантического знания. Дело в том, что локальные поражения мозга могут приводить к селективным затруднением в использовании определенных семантических категорий. Наиболее частая общая диссоциация связана с процессами категоризации живых и неживых объектов. Это семантическое различение является фундаментальным: оно относительно рано, уже в первые месяцы жизни, становится доступным ребенку и даже специально маркируется (например, особыми артиклями) во многих языках мира. Выпадение доступа к семантическим категориям может иметь и значительно более специфический характер. В нейропсихологической литературе описаны случаи, когда пациенты начинали испытывать трудности только с узнаванием и обозначением инструментов, частей тела или же классификацией фруктов и овощей.
Предварительный вывод, который можно сделать на основании этих результатов, заключается в том, что семантическая память связана с распределенным, но не вполне гомогенным хранением информации в различных структурах коры. Интерпретация конкретных данных, правда, вызывает оживленные споры. Дело в том, что в клинических исследованиях очень трудно проконтролировать степень знакомости различных объектов и их перцептивные признаки (см. 2.4.1). Так, например, живые существа обычно более подвижны, чем неодушевленные предметы. Быть может, выпадение способности к их обозначению как-то связано с нарушениями восприятия биологического движения, а не с процессами семантической категоризации как таковой? С другой стороны, вполне возможно, что само подобное возражение сомнительно, так как работа с семантической категорией ЖИВОЕ СУЩЕСТВО с необходимостью предполагает активацию процессов (операций или процедур) восприятия биологического движения.
Принципиальный интерес имеют поэтому новые данные, полученные на здоровых испытуемых с помощью трехмерного мозгового картирования (см. Schacter, Wagner & Buckner, 2000; Nyberg, 2002). Судя по всему, работа с концептуальной информацией вовлекает обширные области как левого, так и правого полушария, что отличает ее от репрезентаций слов — «внутреннего лексикона», связанного в основном с левым полушарием. Далее, эти фрагментарные пока данные, похоже, говорят о том, что семантические категории и знания не только «хра-28
нятся» в различных областях коры, но «хранятся» там (или «примерно там», с небольшим сдвигом в переднем, антериорном направлении), где есть соответствующие средства обработки. Так, для идентификации примеров категории ИНСТРУМЕНТ существенной оказалась премо-торная кора, участвующая также и в регуляции рабочих движений. При категоризации и назывании изображений животных, напротив, активируются прежде всего затылочно-височные области, ответственные за сложные формы зрительной обработки и восприятие движения (в частности, зона V5 — см. 3.1.1). Для знания о пространственном окружении существенны теменные области, а для мысленного вращения образов предметов — премоторные и затылочно-теменные структуры преимущественно левого полушария. Хотя эти данные несомненно будут уточняться в ближайшие годы, уже сейчас они позволяют сделать вывод о важности рассмотрения понятий с точки зрения включенных в их состав сенсомоторных и когнитивных операций.
Подобные результаты представляют собой неожиданно сильный аргумент в пользу теории уровней обработки Крэйка и Локарта (см. 5.2.2), рассматривающей память в качестве побочного продукта перцептивной и когнитивной активности. Эти результаты также соответствуют идеям процедурной семантики (см. 6.1.1). Концептуальные структуры, таким образом, могут получить процедурную, или процессуальную, интерпретацию, например, как кантианские «правила продуктивного воображения». В работах по когнитивной лингвистике, которые мы рассмотрим в следующей главе (см. 7.3.2), в последние годы делается попытка близкой трактовки лингвистических компонентов концептуальных структур. Они выполняют, с этой точки зрения, роль средств «конвенционального воображения», позволяющих создать у слушателя/читателя более или менее определенный образ ситуации. Эти же средства управления построением образа могут использоваться и в режиме внутренней речи — всякая попытка рефлексивного контроля собственного поведения или познавательных процессов неизбежно обнаруживает следы такого «диалога с самим собой».
В отношении более традиционных проблем когнитивной психологии, процедурный подход к значению позволяет по-новому подойти к объяснению эффектов семантического прайминга и распространения активации. Если согласиться, что степень готовности различных когнитивных процессов зависит от выполнявшихся перед этим действий и общего контекста деятельности, то эффекты активации в семантической памяти, трактуемые обычно как результат распространения возбуждения по узлам гипотетической квазипространственной сети, могут быть объяснены частичным перекрытием операций, выполняемых в последовательные моменты времени. В этом случае открывается возможность изучения связи внутренних и внешних форм действия (хотя, на наш взгляд, нет оснований заранее утверждать, что они должны быть структурно идентичны).
29
30
Наконец, преимущество процедурного подхода состоит в том, что он позволяет легко понять труднообъяснимые в рамках структурных моделей семантической памяти факты, такие как быстрое отрицание псевдослов в задаче лексического решения. Главное достоинство процедурной интерпретации концептуальных структур состоит в том, что она не требует фиксированной организации памяти — сама организация материала, с которым мы в данный момент работаем, может структурировать развертывание имеющихся перцептивных и когнитивных операций. Эта обработка будет продолжаться до тех пор, пока возможно осмысленное движение в материале. Ранняя остановка обработки свидетельствовала бы о незнакомости предмета, бессмысленности буквосочетания или аномальности фразы. Быть может, именно поэтому нам достаточно всего лишь доли секунды, чтобы с уверенностью установить, что слово «ман-тинас» не входит в число примерно 105 известных слов русского языка, или что название главной площади Сиены давно забыто — хотя образ ее наклоненной от полуденного солнца эллиптической воронки все еще стоит перед глазами.
Знания не вещи, концептуальные структуры обладают продуктивным потенциалом. Это проще показать на примере внутреннего лексикона. Так, русский язык и язык индейцев навахо обладают системами суффиксов, многократно увеличивающими число лексических единиц и придающими им разные семантические оттенки. (Ср. производные существительные от слова «муж»: «мужество», «мужчина», «мужик», «мужичище», «мужлан», «муженек», «мужичок», «мужиченка» и т.д. Хотя многие из них фиксированы в памяти, другие могут создаваться «на лету», как едва ли существующее, но вполне возможное в некотором ироническом контексте слово «мужчинка».) Еще более богатой системой суффиксов обладают тюркские языки, например татарский. На базе каждого глагола в них могут порождаться тысячи (!) новых терминов (Jackendoff, 2002). Неиссякаемую продуктивность демонстрирует английский язык, вот уже несколько десятилетий снабжающий остальные языки все новыми терминами. Принцип слипания морфем в немецком языке позволяет ежегодно присуждать премии за лучшее и за худшее новое «слово года». Считать, что значения хранятся только в декларативной форме столь же нелепо, как думать, что все возможные грамматические конструкции лишь извлекаются нами в готовом виде из памяти.
Мы переходим теперь к рассмотрению психологических представлений об организации концептуальной информации внутри отдельных семантических категорий. Наиболее детальные исследования организации семантической памяти были проведены с понятиями, строящимися по принципу иерархических родовидовых отношений. Основой для многих психологических работ по изучению родовидовых отношений понятий послужили ранние исследования А. Коллинса и М. Ку-иллиана (Collins & Quillian, 1972). Эти авторы просили своих испытуемых в хронометрических экспериментах определять истинность предложений типа «Канарейка имеет крылья» или «Молоко — синее». В качестве модели семантической памяти они использовали иерархическую сеть, предположив, что главным принципом организации знания является принцип когнитивной экономии. Так, например, свойства (атрибуты, предикаты) канареек могут быть приписаны либо узлу семантической сети, который репрезентирует понятие КАНАРЕЙКА, либо другим иерархически более высоким узлам — ПТИЦА, ЖИВОЕ СУЩЕСТВО и т.д., если речь идет о свойствах, общих для целой группы понятий. Поскольку все птицы имеют крылья, то экономично было бы зафиксировать свойство ИМЕЕТ КРЫЛЬЯ только один раз — против узла ПТИЦА.
При верификации предложения «Канарейка имеет крылья» могло бы происходить движение от узла КАНАРЕЙКА вверх по связям семантической сети, в ходе которого вначале устанавливалось бы, что канарейка — это птица, а затем — что птица имеет крылья. Чем больше дистанция между субъектом и предикатом верифицируемого высказывания (в смысле числа промежуточных узлов иерархии), тем больше должно было быть время верификации. Предложения «Канарейка желтая» и «Канарейка дышит» могут служить примерами возможных предельных случаев. Хотя хронометрические данные, казалось бы, подтвердили эту гипотезу, вскоре была обнаружена возможная ошибка в рассуждениях: три рассмотренных утверждения о канарейках отличаются не только расстоянием между субъектом и предикатом в некоторой гипотетической структуре, но и просто своей естественностью для испытуемого. Поэтому «Собака — это животное» верифицируется быстрее, чем «Собака — это млекопитающее», хотя узел ЖИВОЕ СУЩЕСТВО должен быть расположен в иерархии над узлом МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ. Принцип когнитивной экономии, очевидно, не распространяется на семантическую память в отмеченной крайней форме. Так как связи в некоторых локальных областях семантической памяти могут быть особенно значимы или привычны, свойства хра-
31
нятся там вместе с понятиями и извлекаются без дополнительного процесса вывода".
Очевидные трудности для этой модели связаны также с объяснением латентных времен отрицательных ответов. В целом ряде работ изучалось время реакций категоризации «одинаковые» и «разные» при предъявлении пар слов, обозначающих виды деревьев, цветов, птиц и млекопитающих. Разные пары были либо семантически близки (например, «Орешник — маргаритка»), либо семантически далеки («Орешник — попугай»). Наиболее естественным предположением в рамках модели Коллинса и Куиллиана было бы увеличение времени реакции «разные» в случае семантически далеких слов, так как для сравнения их свойств нужно было бы подняться на относительно более высокий уровень иерархии. Результаты оказались прямо противоположными. Общее правило, выведенное на основании этих и ряда других экспериментов, можно было бы сформулировать следующим образом: чем больше пересечение признаков значений слов, тем легче дать положительный и труднее — отрицательный ответы.
На основе подобных соображений возникло целое семейство теоретико-множественных моделей, наиболее известной из которых является модель сравнения признаков Э. Смита, Э. Шобена и Л. Рипса (Smith, Shoben & Rips, 1974). Понятия трактуются в ней как наборы элементарных признаков (либо как точки в семантическом пространстве соответствующей размерности). Перекрытие признаков определяет семантическое сходство понятий. Среди признаков есть более существенные — «определительные» — и второстепенные, характерные лишь для данного понятия, но не для понятий более широкого класса. Последним при оценке сходства приписываются меньшие весовые коэффициенты. Сам процесс верификации имеет двухступенчатую структуру, аналогичную структуре узнавания в модели Аткинсона и-Джуолы (см. 5.2.1). Если общее сходство субъекта и предиката верифицируемого предложения заведомо выше или ниже некоторых пороговых величин (как в случае утверждений «Дятел — это птица» и «Дятел — это собака»), то испытуемый быстро дает положительный и, соответственно, отрицательный ответ.
![]() 11 Аналогичные проблемы испытывает и модель ассоциативной памяти человека Дж.Р.
11 Аналогичные проблемы испытывает и модель ассоциативной памяти человека Дж.Р.
Андерсона и Г. Бауэра, популярная в 1970-е годы. Она постулирует свободную от субъек
тивных стратегий семантическую память, где понятия образуют узлы, а грамматические
и логические отношения, такие как ВРЕМЯ и ПРЕДИКАТ, — связи между ними. Бауэр и
Андерсон выдвинули ряд предположений об эффективности словосочетаний в качестве
подсказок при воспроизведении вербальной информации. В основе этих предположений
лежит идея экономичной упаковки информации в памяти: предложение подвергается
анализу, и понятие, представленное в нескольких предложениях, записывается в память
только один раз. Если в двух заученных предложениях совпадает ОБЪЕКТ, то, согласно
модели, использование в качестве подсказки для воспроизведения СУБЪЕКТа и ПРЕ
ДИКАТа из разных предложений должно быть более эффективным, чем использование
СУБЪЕКТа и ПРЕДИКАТа одного и того же предложения. Эмпирические данные на этот
счет оказались противоречивыми. В настоящее время допускается возможность много
кратной избыточной записи информации в лексико-семантическую память, коль скоро
32 это упрощает процессы оперативной обработки (см. 7.3.2).
Когда общее сходство оказывается в некоторой промежуточной зоне, проводится второе сравнение, осуществляемое только среди «определительных» признаков. Оно позволяет с некоторой задержкой, но правильно верифицировать высказывание «Пингвин — это птица». Семантическая близость, которая может независимо определяться с помощью психофизического шкалирования, ускоряет верификацию правильных высказываний и замедляет фальсификацию ложных.
Но и эта модель наталкивается на серьезные трудности. Например, она предсказывает быстрое подтверждение правильности высказывания «Птицы — это дятлы». Авторы одной из работ изучали способы фальсификации предложений типа «Колли — это кошка» (Anderson & Reder, 1974). Хотя время реакции положительно коррелировало со степенью семантической близости, корреляция с другими переменными была выше. Полученные данные скорее свидетельствуют о том, что испытуемые сначала генерируют суждение «Колли — это собака», а затем «Собака — это не кошка», прибегая, таким образом, к процессу умозаключения. Наконец, А. Гласе и К. Холиак (Glass & Holyoak, 1975) показали, что в некоторых случаях семантическое сходство ускоряет, а не замедляет отрицательные ответы: высказывание «Все фрукты — овощи» отвергается быстрее, чем «Все фрукты — цветы». В модели поиска маркеров, предложенной последними авторами, можно легко узнать некоторые характерные черты модели Коллинса и Куиллиана. Слова и группы слов репрезентированы в этой модели элементами значения, или «маркерами». Наиболее типичные понятия представлены одним маркером: ПТИЦА - ПТИЧИЙ, КУРИЦА - КУРИНЫЙ, где КУРИНЫЙ означает «обладающий существенными признаками курицы». Маркеры образуют иерархическую сеть благодаря связям, которые могут быть нескольких основных типов: ИМЕЕТ, ЕСТЬ и НЕ ЕСТЬ. Порядок поиска маркеров определяет время реакции в задачах верификации и продуцирования, по которому можно восстановить информацию о структуре семантической памяти.
Методика продуцирования, предложенная Глассом и Холиаком, состоит в анализе легкости дополнения предложений типа «Все/некоторые А являются...». Частота продуцирования слов по инструкции найти правильное или, напротив, ошибочное дополнение отражает, по их мнению, вероятность перехода от маркера подлежащего к маркеру сказуемого. Эмпирически было показано, в частности, что частота намеренно ложных дополнений коррелирует с легкостью фальсификации ошибочных утверждений. Хотя данная модель представляет собой известный шаг вперед по сравнению с теоретико-множественными моделями, она, в свою очередь, испытывает трудности при объяснении таких фактов, как быстрая фальсификация предложения «Все птицы — это ромашки», ведь частота такого дополнения контекста «Все птицы — это...», надо думать, очень невелика.
Наконец, последняя модель, на которой мы кратко остановимся, — это модель распространения активации А. Коллинса и Э. Лофтус (Collins & Loftus, 1975). Речь вновь идет о сетевой конструкции, но она не предполагает иерархичности как основного принципа построения. Структурированность задается прочностью ассоциативных связей между репре-
33
зентациями понятий и атрибутов. Дистанция между узлами сети, соответствующая семантической близости, определяется на основе независимых психофизических оценок. От ассоциативных теорий 19-го века и современных нейронных сетей модель отличается прежде всего качественным характером связей между концептуальными узлами, среди которых можно найти связи разного вида: ИМЕЕТ, ЕСТЬ, НЕ ЕСТЬ, МОЖЕТ, ДАЕТ, ДЫШИТ и т.д.12 Данная модель в общих чертах объясняет те же факты, что и модель Гласса и Холиака. Акцент сделан на новой интерпретации фактов о различиях времени реакции — согласно данной модели, эти различия свидетельствуют прежде всего о распространении внутри семантической сети кратковременной «волны» активации (см. Андерсон, 2002).
Общий результат этих экспериментов заключается в доказательстве роли абстрактных категорий, а также в демонстрации зависимости процессов категоризации как от привычных ассоциаций, так и от связей, которые имеют качественный характер. Вместе с тем, подобные традиционные подходы к описанию структуры семантических категорий обладают рядом недостатков. Для них — как в сетевом, так и в теоретико-множественном варианте — характерно понимание значения как суммы элементарных компонентов. Соответствующие модели основаны на изучении семантики языка. Это исключает из рассмотрения невербальный опыт, который начинает формироваться с самого рождения и специфически связан с восприятием и действиями. Возникшие в ходе этих исследований гипотезы довольно искусственны и больше говорят о различиях экспериментальных ситуаций, чем о представлении знаний. Как заметил один из критиков хронометрирования семантической памяти, «Попробуйте спросить вашего собеседника, есть ли у канарейки крылья, и он решит, что вы либо идиот, либо собираетесь рассказать анекдот».
6.2.2 Понятия базового уровня
Видное место в современных исследованиях категориальной организации до сих пор занимают работы Элеоноры Рош13, обратившейся к анализу естественных семантических категорий и их связи с восприятием и действием. Опираясь на более ранние этнографические исследования, Рош выступила в 1970-е годы с критикой доминировавшего тогда
![]() 12 Уже Отто Зельц подчеркивал, что родовидовые отношения между понятиями не сво
12 Уже Отто Зельц подчеркивал, что родовидовые отношения между понятиями не сво
дятся к гомогенным ассоциативным связям. В противном случае на вопрос о родовом тер
мине к слову «собака» мы столь же часто говорили бы «кошка», как и «животное».
13 Эта американская исследовательница из Калифорнийского университета известна
также своими работами по проверке гипотезы лингвистической относительности Сэпира-
34 Уорфа в области восприятия и запоминания оттенков цвета (см. 8.1.2).
в когнитивной психологии понимания семантических категорий как объединения дискретных признаков, якобы необходимых и достаточных для идентификации понятий: «Ни модель формирования понятий в терминах заучивания "правильной" комбинации дискретных атрибутов, ни модель процесса абстракции в терминах абстрагирования центральной тенденции... некоторого произвольного сочетания признаков не являются адекватными объяснениями природы и развития естественных категорий... Предлагается... следующая альтернатива: существуют... формы, которые перцептивно более заметны, чем все другие стимулы в данной области... эти наиболее заметные формы являются "хорошими формами" гештальтпсихологии» (Rosen, 1973, р. 113—114).
Наряду с гештальтпеихологией, теоретической основой работ Рош служат идеи Людвига Витгенштейна. На примере категории «игра» он описал так называемые категории семейного сходства, отдельные представители которых не имеют единого набора семантических признаков. В самом деле, что общего может быть между играми животных, игрой в карты и Олимпийскими играми? Члены одной большой семьи могут быть в целом похожи друг на друга, но по различным признакам в разных ответвлениях семейства, Точчно так же в случае многих семантических категорий не существует единого характеристического набора признаков. Некоторые понятия, входящие в подобные категории, являются более типичными их представителями, чем другие. Одновременно с Витгенштейном такие разветвленные цепочки объектов, построенные вокруг одного или нескольких прототипов на основании меняющихся признаков, были описаны Л.С. Выготским при изучении формирования искусственных понятий у детей. Выготский считал эти «комплексы» промежуточной формой на пути от псевдопонятий к подлинным понятиям, построенным на основе достаточных и необходимых признаков, но оказалось, что они представляют собой общий случай организации знания и у взрослых.
Анализируя организацию ряда естественных категорий (оттенки цвета, мебель, преступления, эмоции...), Рош прежде всего описала факт различной типичности отдельных их представителей: «шкаф», например, скорее может служить одним из прототипов категории «мебель», чем «секретер». Большинство таких категорий организовано вокруг нескольких прототипов, которые, по ее мнению, не могут быть описаны фиксированным набором определительных признаков. Рош показала, что люди могут устойчиво оценивать типичность (близость к прототипу) отдельных представителей категории (ср. рис. 6.6). Типичные представители более естественно выглядят в качестве заместителей имени категории. Так, о «птице» естественно сказать, что она «сидит за окном на ветке». Теперь в это предложение можно подставить слова «орел», «ворона», «попугай», «курица», «воробей», «дятел», «пингвин»... Можно создать искусственные категории с характерной организацией
35
|
Рис. 6.6. Некоторые из изображенных птиц в большей степени соответствуют представлению о типичной птице, чем другие.
вокруг прототипов, в этом случае прототипы — «фокальные примеры» — заучиваются быстрее, чем другие объекты (Rosch, 1978). Они могут узнаваться и воспроизводиться как присутствовавшие в наборе объектов, даже если на деле так и не были предъявлены (например, при показе некоторого количества близких по значению слов, указывающих в направлении прототипа). Хотя Рош неоднократно подчеркивала, что не ставит целью создание теории семантической памяти, ее работы заметно повлияли на эту область исследований14.
Выделением прототипов вклад Рош в изучение структуры естественных категорий не ограничился. Она также отметила, что многие категории образуют иерархии включения классов, состоящие обычно не менее чем из трех уровней абстрактности. По ее мнению, понятия среднего уровня имеют по сравнению с понятиями высокого или низкого уровней абстрактности более базовый статус. Так, «стол» является базовым понятием по сравнению с «мебелью» или «столиком», а «пальто» — по сравнению с «одеждой» или, скажем, «дождевиком». Базовые понятия могут быть прежде всего представлены в виде обобщенного образа. Интересным является и то обстоятельство, что по отношению ко всем представителям некоторого базового понятия мы обычно выполняем некоторый общий набор специфических движений и действий. В случае категорий более высокого уровня абстрактности такого единого набора движений уже не существует. Ряд экспериментов позволяет продемонстрировать особую значимость семантических единиц
![]() 36
36
14 В частности, они вызвали попытки использования для описания категориальной организации памяти математического аппарата теории размытых множеств. Эта теория широко использовалась в 1970-е годы для описания процессов категоризации, включающих градуальные оценки. В настоящее время для моделирования таких оценок часто применяются модели, основанные на нейронных сетях (см. 2.3.3).
базового уровня в процессах коммуникации, так как именно они обычно используются в качестве референтных терминов в сравнительных конструкциях.
Некоторые из результатов, полученных в рамках данного подхода, вполне нетривиальны. Так, понятия базового уровня первыми обрабатываются в задачах сравнения слов и картинок: изображение розы быстрее идентифицируется как «цветок» (базовое понятие), чем как «роза». Исследования развития речи в онтогенезе также показали, что слова, соответствующие базовым понятиям, раньше, чем более абстрактные или более конкретные, усваиваются ребенком. Следует заметить, что сами обобщения, лежащие в основе ранних категоризации, могут быть чрезвычайно широкими — достаточно широкими, чтобы учитывать только глобальные различия между живым и неживым или чтобы, как это обсуждалось в предыдущем разделе, отнести к одной категории крокодила и комара. Складывается впечатление, что базовые понятия, связывающие воедино обозначающие их слова, наглядные образы и специфические движения, выполняют функцию «быстрого интерфейса» между процессами сенсомоторного взаимодействия с объектами и обобщенным концептуальным знанием о них15.
В последние два десятилетия эта теория приобрела большую популярность не только в психологии, но и вне ее, особенно в теоретической лингвистике. Надо сказать, однако, что, несмотря на заявленный интерес к анализу естественных категорий, значительная часть работ Рош проводилась со студентами университетов, причем на материале специально подобранных абстрактных семантических областей. Иначе говоря, возможно, что и сами эти работы были недостаточно экологически валидны. Для проверки этого предположения особенно интересны этнографические исследования категоризации. Такие исследования интенсивно проводились в последние годы. Их результаты в ряде отношений не подтвердили представления Рош о структуре категорий. Во-первых, этнографические данные ставят под сомнение организующую роль собственно прототипов — вместо перцептивно наиболее частотного или типичного эту роль часто выполняет «самое важное» с практической точки зрения. Во-вторых, базовые понятия в таких исследованиях обычно оказываются значительно более конкретными, чем у испытуемых Рош. Например, у индейцев айтца-майя из Гватемалы базовая категория
![]() 15 Красивая иллюстрация «склеивания» слова и стоящего за ним знания принадлежит
15 Красивая иллюстрация «склеивания» слова и стоящего за ним знания принадлежит
A.B. Запорожцу. Дети не чувствуют противоречия в том, что в рассказываемой им сказке
хозяин оставляет чернильницу сторожить дом вместо собаки. Однако они протестуют,
когда чернильница начинает лаять на забравшихся в дом воров — по их мнению, черниль
ница должна брызгать на них чернилами. Такое объединение свойств обозначаемого и
обозначающего характерно для ранних этапов формирования понятий и для мифологи
ческого сознания, что отражается в латинской пословице «nomen est omen» («Имя — это
предзнаменование») 37
для птиц — это индейка (из-за ее вкусного мяса и особого культурного значения), а для змей — наиболее ядовитая, хотя и сравнительно редкая в этом регионе разновидность.
Применительно к этнографическим работам, проводимым, как правило, путем словесного опроса, всегда можно усомниться в правильности интерпретации вопросов и ответов. Разумно предположить также, что академическое образование в целом подчеркивает роль абстрактных, а не прагматически-ситуативных критериев категоризации, доминирующих в относительно традиционных культурах (например, Nisbett et al., 2001). Там, где неграмотный афганский крестьянин выберет (в тестовом задании «один лишний») из набора «топор, молоток, бревно, пила» в качестве лишнего элемента «молоток», для европейцев совершенно естественной стратегией будет объединение объектов на основе абстрактной категории «инструмент», ведущее к удалению слова «бревно». Но и в стандартных исследованиях когнитивных психологов, проводимых во всем мире в основном со студентами или выпускниками университетов, сегодня утвердилось Мнение, что семантические категории зачастую могут иметь весьма рыхлую структуру, формируясь ad hoc на базе одного-двух ярких примеров или ситуативно возникающих намерений и целей действий.6.2.3 Роль примеров и ситуативных факторов
Основной альтернативой рассмотренным представлениям об иерархической организации семантических категорий стал так называемый эк-земплярный подход. В принципе, он призван объяснить примерно тот же круг феноменов, что и теория Рош. При этом, однако, отрицается существование или, по крайней мере, эффективность абстрактных прототипов вроде понятий базового уровня. Предполагается, что эпизодическая память в комбинации с восприятием способны сохранять конкретные примеры категорий, по отношению к которым и определяется возможная категориальная принадлежность других объектов. О целесообразности такой стратегии говорят некоторые общие соображения — прежде всего то, что у нас обычно нет ни времени, ни особого желания заниматься абстрактными классификациями. Например, хотя можно представить себе, что кто-то специально занимается классификацией профессий как таковых, обычно нас интересуют конкретные примеры: «мой доктор», «друг-программист», «сосед-бизнесмен», «знакомый издатель». Сохранение конкретных примеров означает также сохранение максимальной информации, которая может гибко использоваться в зависимости от возникающих задач.
Эмпирические данные в пользу экземплярного подхода могут быть найдены в результатах многих лабораторных и прикладных исследова-38
ний. То, что отдельные примеры из памяти действительно могут существенно влиять на категориальные оценки, наиболее последовательно демонстрирует в своих работах канадский психолог Ли Брукс. В некоторых из них испытуемым показывались примеры двух классов существ, отличавшихся по целому ряду видимых признаков (размеры, форма, окраска, количество конечностей и т.д.). Лишь часть этих признаков была релевантна и явно упоминалась в одновременно предъявлявшемся формальном правиле классификации. На стадии тестирования показывались новые картинки, причем иррелевантные признаки существ одного класса могли теперь быть столь же иррелевантными признаками существ другого класса. Результаты классификации обнаружили сильное влияние иррелевантных перцептивных признаков тех примеров, которые были показаны ранее — формальные правила классификации объектов применяются с трудом и сопровождаются ошибками, если эти правила противоречат простому перцептивному сходству.
В других известных (хотя, возможно, и несколько спорных) экспериментах проверялось, насколько формирование эталонных представлений о некоторой категории объектов связано со статистическим усреднением параметров отдельных примеров. Испытуемым показывались объекты двух категорий, которые имели одинаковые средние величины некоторого признака, но различный разброс этих величин в конкретных экземплярах. Например, на стадии обучения классификации испытуемым демонстрировались круглые упаковки, как утверждалось, с пиццей, размеры которых случайно варьировали в диапазоне от 20 до 60 см (средняя величина 40 см), и такие же упаковки якобы с автомобильными «баранками» — их диаметр был постоянным и равным 40 см. Через какое-то время испытуемым показывалась для категоризации круглая упаковка размером 55 см. Если формирование знание о категориальной принадлежности объектов связано с усреднением параметров примеров и последующим забыванием индивидуальных характеристик, то отнесение тест-объекта к одной из этих категорий было бы одинаково сложным и равновероятным. Однако испытуемые уверенно называли подобный тест-объект «пиццей». Знание о вариативности конкретных экземпляров таким образом сохраняется, а не исчезает, как это должно было бы происходить в процессе формирования прототипа.
С точки зрения практических приложений интересны многочисленные работы Брукса и его коллег по психологическим аспектам медицинской диагностики (Brooks, Norman & Allen, 1991; Brooks, LeBlank & Norman, 2000). В двух областях с явно выраженным зрительным характером исходных данных, радиологии и дерматологии, эти работы показали сильную зависимость диагностических оценок от чисто визуального сходства тестового случая с виденными ранее конкретными примерами того же самого или, иногда, совсем иных заболеваний. Кстати, подобные яркие примеры особенно эффективно меняют поведение людей — всем, и не в последнюю очередь медикам, известно, что курение ведет к раку и другим тяжелым легочным заболеваниям. Из всех категорий ме-
39
|
Рис. 6.7. Два примера изображений, используемых с начала 2002 года на упаковках канадских сигарет.
дицинских работников радиологи, пульмонологи и патологоанатомы, то есть именно те специалисты, которые непосредственно наблюдают конкретные примеры разрушений легочных тканей, курят значимо меньше, чем другие. Трудно сказать, насколько велик здесь относительный вклад эпизодической памяти и непосредственного восприятия, но совместно они явно способны серьезно трансформировать процессы семантической классификации в направлении устойчивой модификации поведения.
Эти результаты и теоретические соображения привели в последнее время к изменению форм борьбы с курением. Вместо абстрактных вербальных предупреждений «Минздрава» или «Главного врача» канадские психологи предложили использовать на упаковках сигарет яркие визуальные образы, более или менее непосредственно демонстрирующие медицинские последствия курения (рис. 6.7). Их предложение было поддержано в законодательном порядке. Согласно предварительным исследованиям, в результате до 40% курильщиков выразили готовность преодолеть эту зависимость16.
Подобные результаты говорят об ошибочности трактовки семантической памяти как хранилища одной лишь абстрактной символьной информации (см. 2.2.3 и 6.4.2). Вместе с тем, при рассмотрении этих результатов складывается впечатление, что речь идет об описании лишь одной из форм репрезентации знания. Она может сосуществовать с более структурированным и менее зависимым от восприятия знанием. Даже маленькие дети ориентируются в своих оценках не только на зрительное сходство, но и на абстрактные представления. Л.С. Выготский
![]() 40
40
описал развитие концептуальных структур как разнонаправленные, но взаимодействующие процессы формирования житейских и научных понятий, отметив, что рефлексивное сознание и произвольный контроль связаны преимущественно с научными понятиями. Понятия, основанные на общности признаков и перцептивном сходстве, формируются под определяющим влиянием восприятия, так сказать, по направлению «снизу вверх». Опорой для них может быть естественная структурированность и сходство объектов в окружении. Вполне возможно, однако, формирование понятий, преимущественно основанных на наших теоретических представлениях. Академическое образование и формальное обучение опираются именно на теоретическое определение понятий. Генеральным направлением развития здесь будет движение «сверху вниз». В этом случае категоризация вполне возможна и без какого-либо пересечения перцептивных признаков экземпляров.
Структурирование опыта в режиме «сверху вниз» происходит не только в условиях академического образования. Широкую известность получили использующие эти представления работы ученика Найссера Л. Барсалу (Barsalou, 1983). Он показал, как естественно сугубо ситуативные задачи могут обусловливать формирование спонтанных, или «ad hocкатегорий», типа «возможный новогодний подарок», «то, что можно есть, находясь на диете», «все, что мне больше не понадобится» и т.д. В этом случае категоризация оказывается подчиненной решаемым в данном жизненном эпизоде задачам. Иными словами, понимание подобных спонтанных группировок возможно лишь с учетом личностного смысла предметов и ситуаций. Следует отметить, что традиционный логический подход к описанию значений понятий в терминах необходимых и достаточных признаков неоднозначен, так как существует бесконечное количество разнообразных признаков и семантических измерений объектов, а равно их комбинаций (см. 6.4.2). Селекция, основанная на наших целевых установках, позволяет ограничить это разнообразие и, таким образом, несмотря на свою субъективность, способствует — в оперативном контексте — формированию устойчивых структур знания.
Может показаться, что описания Барсалу представляют собой предельный случай. Однако контекст возможного практического или теоретического (аргументация в споре) использования играет критическую роль и в выявлении различных аспектов значений самых обычных понятий. Об этой гибкости структур семантической памяти человека еще в 19-м веке прекрасно сказал И.М. Сеченов: «Описание всех рубрик, под которыми занесено в память все перечувствованное и передуманное... определяется для каждой отдельной вещи всеми возможными для нее отношениями к прочим вещам, не исключая отношения к самому чувствующему человеку. Так, например, дерево может быть занесено в память как часть леса или ландшафта (часть целого); как предмет, родственный траве и кустам (категория сходства); как горючий или строи-
41
42
тельный материал (здесь... разумеются под одним и тем же родовым именем "дерево" дрова, бревна, брусья, доски — различно и искусственно сформированные части целого дерева); как нечто одаренное жизнью (в отличие, например, от камня); как символ бесчувственности и т.д.» (Сеченов, 1953, с. 255).
Подобная гибкость представляет собой серьезную проблему для теорий концептуальных структур. Гибкости нет ни в статических иерархиях понятий, ни в пространственных моделях, ни в репрезентациях, предполагающих существование прототипов. То же самое можно сказать о репрезентациях, выявляемых с помощью латентного семантического анализа, хотя полезной особенностью этой формы репрезентации является богатство потенциальных связей (см. 6.1.1 и 7.4.2). Решение может состоять в том, чтобы ввести внешнюю по отношению к семантике активность — метакогнитивную работу со знанием, как в случае описанного Барсалу влияния целей и мотивов деятельности, образующих ситуативные смысловые контексты (см. 8.1.3). Продуктивный потенциал демонстрирует, например, контекст СРАВНЕНИЯ понятий друг с другом. Так, сравнение дерева с брусьями и другими пиломатериалами в только что приведенной цитате из И.М. Сеченова моментально выявляет один из множества возможных срезов семантики этого понятия. Сравнение с человеком — совсем другой. Этот потенциал переходов между понятиями связан с межкатегориальной организацией знания, которая будет рассмотрена в следующем разделе. Отметим здесь только, что понятия и обьщенные представления могут выполнять по отношению к другим компонентам концептуальных структур функции объяснительных конструктов, то есть функции рудиментарных теорий.
«Теория теории» категоризации, иными словами, предположение, что мы используем одни понятия в функции теорий для других понятий и чувственных данных, становится в последние годы популярной альтернативой более традиционным моделям, основанным на анализе сходства с перцептивными примерами и прототипами (Medin & Heit, 1999). При этом подчеркивается важная функция процессов категоризации, заключающаяся в интерпретации и объяснении наблюдаемых явлений. Так, слово «молоток» рассматривается нами в контексте категорий ИНСТРУМЕНТ и АРТЕФАКТ (предмет искусственного происхождения), «лошадь» — в контексте того, что мы знаем и как представляем себе ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. В результате становятся возможными многочисленные, чисто теоретические умозаключения, типа «лошадь дышит», «имеет внутренние органы» и т.д. Напротив, «игрушечная лошадь», несмотря на ее возможное высокое перцептивное сходство с настоящей, сразу рассматривается в контексте общей категории АРТЕФАКТ, поэтому приведенные умозаключения оказываются просто немыслимыми — разве только в контексте очень специфического ментального фрейма «как если бы», характерного для ролевой игры или для творческого воображения (см. 8.1.3).
Как и когда используются те или иные «теории/категории» — серьезный, во многом еще неясный вопрос. Ярким примером различных стратегий объяснения в зависимости от категоризации служит так называемая фундаментальная ошибка атрибуции (см. 6.4.3 и 8.4.1). Суть этой ошибки состоит в тенденции приписывать причины того или иного поведения некоторым устойчивым чертам личности, вместо того чтобы пытаться разобраться в конкретных условиях, которые могли ситуативно обусловить данное поведение или поступок. Как показывают многочисленные исследования, эта упрощающая наши оценки стратегия (или, иными словами, эвристика — см. 8.1.1) выражена более сильно при оценке поведения лиц, относимых к категории «чужих». При объяснении такого же поведения «своих», обычно лучше знакомых нам людей мы, напротив, избегаем поспешных обобщений, пытаясь найти оправдание в особенностях ситуации: «был поставлен в невыносимые условия», «торопился», «заморочили ему голову», «хотел как лучше» и т.д. (обе стратегии оказывают сильное влияние и на то, как мы описываем в речи поведение других людей — см. Maass, 1999). Интересно, что сама глобальная категоризация на «своих» и «чужих» весьма лабильна — эти категории могут объединять или разделять сотрудников одного учреждения, равно как и население целых регионов. Так, можно выделять европейцев как «чужих» и одновременно, считая себя европейцем, с сомнением относиться к обитателям американского континента.
Таким образом, семантическая память в ее функционировании дает широкий спектр примеров конкретных и абстрактных, ситуативных и относительно стабильных понятий. Эту особенность наших знаний неоднократно использовал в качестве художественного приема аргентинский писатель Луис Хорхе Борхес. В одном из своих рассказов он описал якобы найденную при раскопках древнюю энциклопедию «Щедрые знания Поднебесной Империи», разделяющую животный мир на (примерно) следующие категории: а) «животные, принадлежащие императору», б) «свиньи и домашние животные», в) «бродячие собаки», г) «русалки и водяные», д) «сказочные животные», е) «те, которые только что разбили фарфоровую вазу», ж) «дрожащие, как если бы они были бешеными», з) «нарисованные самой тонкой верблюжьей кисточкой», и) «напоминающие мух с большого расстояния», к) «включенные в эту классификацию», л) «все остальные». На первый взгляд подобный список кажется довольно странным, если не безумным, но на самом деле он прекрасно иллюстрирует существенные особенности эклектичных принципов организации наших концептуальных структур.
43
Из предыдущего обсуждения видно, что наряду с категориальной организацией, фиксирующей принадлежность понятия к некоторому семантическому классу и его отношения к другим представителям этого класса, исключительно существенна и межкатегориальная организация знаний, связывающая между собой понятия из различных, подчас довольно далеких семантических областей'7. Интерес к межкатегориальной организации заставляет прежде всего поставить очень общий вопрос — какие семантические области и категории вообще существуют в нашем знании? Данный вопрос давно обсуждается в философии (от Лейбница и Канта до Карнапа), а в последние годы также и в работах по искусственному интеллекту и роботике, так как мобильные роботы будущего должны быть оснащены если и не полным знанием о мире, то хотя бы первыми элементами знаний о наиболее существенных его категориях. Изучение основных категорий обыденного сознания («здравого смысла»), позволяющих нам справляться с повседневными жизненными задачами, выдвигается поэтому на передний план когнитивных исследований.
Опись «всего, что существует» относится к компетенции раздела философии, называющегося онтологией. К сожалению, речь идет об одном из наиболее нечетких терминов обширной философской, а в последнее время и научно-технической литературы. Мы будем понимать под «онтологией» описание того, что истинно и существует в данном мире. Соответственно, «онтологическими переменными» будут называться истинностные переменные, а «онтологическими категориями» — наиболее общие таксономические классы существующих в мире объектов. В философии онтологии обычно противопоставляют гносеологию — теорию познания сущего. (В этом смысле когнитивная психология могла бы называться «экспериментальной гносеологией».) Подчеркнем, что психологическая онтология занимается спецификацией результатов процесса познания как они репрезентированы в индивидуальных концептуальных структурах. При этом, конечно, нельзя ожидать упорядоченности и полноты «Британской энциклопедии». Более того, следует быть в принципе готовым к встречам с кем-нибудь из обитателей борхесовского зверинца, например русалками и водяными.
![]() 17 В лингвистике начала 20-го века было распространено довольно похожее проти
17 В лингвистике начала 20-го века было распространено довольно похожее проти
вопоставление парадигматических и синтагматических отношений. Если первые име
ют, так сказать, формальный, например родовидовой, характер, то вторые объединяют
понятия из различных категорий в описание ситуаций и событий, как они встречаются
в нашем опыте (Лурия, 1975). Современная лингвистика использует при изучении се
мантических категорий различные лексико-фразеологическое подходы, направленные
на выделение примитивных семантических компонентов слов (например, Кобозева,
44 2000; Jackendoff, 2002).
Самыми общими, возможно, априорными категориями являются категории пространства и времени. Хотя параметры времени и места действия более явно выступают в нашем автобиографическом опыте (эпизодическая память, автоноэтическое сознание — см. 5.3.2), они также присутствуют и в безличностном, энциклопедическом знании концептуальных структур (семантическая память, или ноэтическое сознание по Тулвингу), так как практически любое описание некоторой сцены, а равно события предполагает спецификацию пространственных и временных параметров.
Более внимательный взгляд на содержание этих онтологических категорий обнаруживает их отличие от пространства и времени восприятия (см. 3.1.1 и 3.1.2). Прежде всего представляемое пространство не является гомогенным и строго метрическим, оно явно расчленено на дискретные области в соответствии с организацией нашей среды обитания. Далее, пространство обыденного сознания опирается на множество находящихся в иерархических отношениях систем отсчета (здесь наблюдаются сильные межъязыковые и межкультурные различия — см. 8.1.2). Одновременно мы способны легко представить себе пустое, метрическое и изотропное пространство галилеевско-ньютоновской механики. Пространство-время неклассической физики не стало или, может быть, еще не стало компонентом нашей наивной модели мира (см. 6.4.3). В силу высокой сложности и абстрактности категории ВРЕМЯ мы представляем его по образу и подобию более понятной нам категории ПРОСТРАНСТВО, а именно как пространство одного измерения — горизонтальную ось или вектор, обычно лежащий перед нами. При этом мы можем в зависимости от обстоятельств чувствовать себя в потоке событий или же пассивно наблюдать его (см. 7.4.2). Но это представление не является всеобщим. Для носителей китайского языка (мандарин) время может двигаться и в вертикальном направлении, причем, подобно частицам воды в водопаде, сверху (более раннее) вниз (более позднее). Это движение абсолютно и не включает наблюдателя. Несомненно, что существует множество других культурных моделей времени, например, имеющих разную «зернистость».
Крупные таксономические единицы можно описать как древовидные объекты. Одним из самых больших и разветвленных тогда было бы дерево ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, подразделяющиеся далее на естественные (в том числе столь популярные в исследованиях категориальной организации ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА) и искусственные (АРТЕФАКТЫ). Очень близко, возможно, из того же корня, растет категория СУБСТАНЦИИ, которая включает очень важные для обыденного сознания природные стихии. Точно так же из одного корня и в тесном соседстве произрастают категории ПРОЦЕССЫ и СОБЫТИЯ. На примере этих двух пар онтологических категорий можно показать, как в концептуальных структурах возникают возможности для совершенно естественных межкатегориальных переходов. Так, объекты и со- 45
бытия по сути своей имеют, в отличие от субстанций, относительно четко очерченные границы. Поэтому мы можем сказать «конец лекции» и «конец стола» («сидеть в конце стола»), хотя никакого непосредственного перцептивного сходства между лекцией и столом, конечно, нет. Абстрактная общность онтологических категорий позволяет использовать одинаковые речевые конструкции.
Интенсивнее других в последние десятилетия изучалась та часть концептуальных структур, которая имеет отношение к речи и коммуникации. Ее называют «внутренним лексиконом», хотя в ее состав входят не только собственно слова, но и другие, как более мелкие (корневые морфемы, приставки, суффиксы), так и более крупные (вплоть до устойчивых идиоматических выражений и фрагментов известных стихотворений) единицы речи. В состав лексикона в последнее время часто включают и знание синтаксиса, причем в связи с хранением предикатов, в роли которых выступают глаголы18. Эти вопросы интенсивно обсуждаются в последнее время в рамках когнитивной лингвистики и лингвистической семантики, где предприняты многочисленные попытки дать возможно более полную спецификацию лексико-семантичес-ких категорий (Кобозева, 2000).
Так, польская исследовательница Анна Вежбицка (Wierzbicka, 1999) выделяет примерно 60 элементарных семантических единиц языка, такие как семантические подлежащие (Я, ТЫ, КТО-ТО...), квантификаторы (ОДИН, ДВА, НЕКОТОРЫЕ...), атрибуты (ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, БОЛЬШОЙ...), ментальные предикаты (ДУМАТЬ, ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ...), действия/события/движения (ДЕЛАТЬ, СЛУЧАТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ...), логические операторы (НЕТ, ЕСЛИ, ПОТОМУ ЧТО...), время (КОГДА, ТЕПЕРЬ, ПОСЛЕ...), место (ГДЕ, ЗДЕСЬ, НАД...) и т.д. В других известных попытках описания онтологических категорий «ментального языка» и даже «языка мысли» (Fodor, 1978) число выделяемых примитивных единиц иногда отличается на порядок: от нескольких сот до всего лишь семи, как в теории концептуальной зависимости Роджера Шенка (1980), которая будет рассмотрена нами в следующей главе. Там же мы подробно остановимся на взаимоотношениях между преимущественно семантическими подходами к описанию функционирования языка в современной когнитивной лингвистике и более синтаксическими концепциями, восходящими к работам Хомского и его школы (см. 7.3.2).
Еще одна форма знания, существенная для успешности социального взаимодействия, связана со знанием основных жанров коммуникации. (Сам выбор оптимального для некоторой ситуации жанра и стиля общения является, по-видимому, функцией более высокого уровня
![]() 18 В работах Е.А. Кибрика (2004) было показано, что онтологическое различие ДЕЙ
18 В работах Е.А. Кибрика (2004) было показано, что онтологическое различие ДЕЙ
СТВИЙ («ударить», «родить») и СОСТОЯНИЙ («хотеть», «болеть») определяет в некото
рых языках относительную естественность использования форм совершенного и несо-
46 вершенного вида глаголов (см. также 7.3.1 и 8.1.2).
метакогнитивных координации F — см. 8.1.3.) Несомненно, что концептуальные структуры содержат множество других знаний, таких как процедурные знания о приемах решения типичных задач, а также разнообразные правила поведения и умения (с фоновыми автоматизмами в нижележащих уровнях — от предметных действий D до синергии В). Наконец, они включают знания психологии и ментальных состояний человека, прежде всего в их нерефлексивной, «наивной» форме, которые имплицитно содержатся в каждом языке и социокультурной среде (см. 6.4.3 и 9.4.2).
На этом месте может возникнуть вопрос: зачем все-таки анализ онтологических категорий нужен психологам? Ответ состоит в том, что наше понимание прямо определяется имеющимися у нас концептуальными структурами (см. 5.4.2 и 7.3.1). Если обучение, несмотря на усилия учащихся и преподавателей, не приводит к пониманию предмета, то причиной этого может быть отсутствие понятийной базы или же неправильная категоризация (Chi & Roscoe, 2002). Серьезность проблемы определяется тем, насколько сильно «промахивается» учащийся, пытаясь найти подходящую семантическую «систему отсчета». Если он считает дельфинов разновидностью рыб, то для коррекции понимания нужна лишь «смена ветки» — переход к узлу МЛЕКОПИТАЮЩИЕ внутри той же категории ЖИЦЫЕ СУЩЕСТВА. Набор предикатов (признаков) понятия при таком сдвиге существенно не меняется. Сложнее обстоит дело, когда требуется полная «смена онтологического дерева». Например, изучение физики часто осложняется тем, что электричество ошибочно трактуется как субстанция (оно якобы «хранится внутри батареи», «течет в проводах» и т.д. — см. 7.4.2). Совсем серьезная ситуация складывается, когда необходимые категории вообще отсутствуют. Так обычно обстоит дело в отношении процессов множественных нелинейных взаимодействий. Их понимание существенно при изучении целого ряда дисциплин — термодинамики, нейрофизиологии, экологии, эпидемиологии, макро- и микроэкономики (см. 8.2.1).
Еще одним обстоятельством, препятствующим пониманию и обучению, является определенная самодостаточность ошибочных представлений. В этом смысле иногда лучше иметь дело с явно фрагментарными знаниями, чем с ошибочной онтологией, поскольку последняя позволяет на каждый вопрос дать некоторым образом обоснованный ответ и, тем самым, препятствует осознанию необходимости концептуальных изменений. В качестве иллюстрации рассмотрим две модели сердечно-сосудистой системы: распространенную, но ошибочную, основанную на представлении о множестве одинаковых петель между сердцем и другими внутренними органами (рис. 6.8А), и правильную, включающую две качественно различные петли — малый (сердце и легкие) и большой (сердце и остальные органы) круги кровообращения (рис. 6.8Б). Ошибочные представления обнаруживают особую сопротивляемость, если они связаны с другими ошибочными убеждениями, например, что функция 47
Единая петля
Двойная петля
|
|
Рис. 6.8. Примеры ошибочной (А) и правильной (Б) ментальных моделей системы кровообращения (по: Chi & Roscoe, 2002).
48
сердца состоит в обогащении крови кислородом. Легкие рассматриваются тогда в качестве органа-получателя кислорода, подобного печени или мышцам. Подобная замкнутость характерна для повседневных представлений в различных областях нашего обыденного сознания — наивных физике, физиологии и психологии (см. 6.4.3).
Выдающуюся роль в функционировании концептуальных структур играют относительно устойчивые, обобщенные структуры опыта, которые позволяют предвосхищать порядок развития событий, их содержание и внутреннюю связь, а также предвидеть изменения вида объектов и окружения при собственных действиях и локомоциях. Чаще всего в качестве родового имени этих глобальных структур знания выступает термин схема, уже использовавшийся ранее в философии Кантом, в неврологии Хэдом, в психологии Бартлеттом и Пиаже (см. 1.1.3 и 1.4.3). С известной долей условности схемы можно разделить далее по принципу преимущественного доминирования пространственной и временной информации на схемы сцен, или фреймы, и схемы событий, или сценарии {скрипты). Иногда термин «фрейм» используется в более общем значении «схема» — это характерно скорее для работ в области искусственного интеллекта, машинного зрения и теоретической лингвистики (см. 6.4.2 и 7.3.2).
Влияние схем полезно показать на паре примеров. В качестве первого можно взять понятие ХОЛОСТЯК, для определения которого, согласно традиционным подходам (см. 2.2.1 и 6.1.1), необходимо и достаточно трех атомарных признаков — взрослый (+), женатый (—), мужчина (+). Однако, как отметил лингвист Лакофф, всем понятно, что папу римского нельзя назвать холостяком, хотя в его случае эти требования полностью выполняются. Иными словами, мы рассматриваем это понятие в контексте социокультурного фрейма женитьбы/замужества, который несовместим с обязательным для католических священников целибатом. Второй пример относится к восприятию и движениям. Каждый обладает
абстрактной «схемой комнаты», которая порождает ряд ожиданий. Чтобы быть комнатой, помещение должно иметь пол, стены, окна, дверь и потолок. Хотя их размер и расположение не очень принципиальны, есть некоторые пределы, при выходе за которые мы уже не сможем говорить о комнате. Находясь в комнате, нам нет необходимости проверять, есть ли стена у нас за спиной — благодаря схеме мы продолжаем воспринимать ее и без всякой сенсорной информации, то есть амодально. «Схема комнаты» предполагает также некоторое заполнение, хотя комната может быть и пустой. «Схема кухни» будет, очевидно, более конкретной. Еще конкретнее будет «схема моей кухни».
Мы остановимся в этом разделе на пространственных и временных схемах. Речевые конструкции будут рассмотрены в последнем разделе этой главы и в двух следующих главах, целиком посвященных речи и мышлению. Роль пространственных схем отчетливо выступила в исследовании Дж. Мортона и Р. Бирна (Morton & Byrne, 1975), которые просили домашних хозяек перечислить ингредиенты, необходимые для приготовления различных блюд, или составить список в ответ на вопрос «Что бы вы взяли с собой, если бы вашей семье пришлось месяц прожить в пустынной местности?» Как сообщали испытуемые, отвечая на подобные вопросы, они часто мысленно осматривают свою кухню. Поэтому после эксперимента испытуемых попросили зарисовать план их кухонь с указанием того, где хранятся различные продукты и хозяйственные принадлежности. Такие же группы названий были обнаружены и в протоколах ответов. Влияние пространственной организации на воспроизведение информации обнаруживается и в тех случаях, когда она не может помочь решению задачи. Если испытуемому показать картинку с несколькими объектами, среди которых есть и дерево, и попросить перечислить известные ему породы деревьев, то во время ответа зрительно будет фиксироваться именно изображение дерева. Более того, фиксация этого места часто сохраняется даже тогда, когда картинка во время ответа исчезает!
Различия категориальной и схематической организации часто изучаются в экспериментах на воспроизведение категоризованных списков слов и равных по объему историй. Возможно, однако, что в ряде примеров положительного влияния категориальной организации определенное значение имела также пространственная организация материала. В экспериментах Гордона Бауэра и сотрудников (Bower et al., 1969) для облегчения запоминания использовалась сложная иерархическая организация понятий. Общий объем списка был равен 112 словам. Они образовывали четыре независимые категории, каждая из которых имела четыре уровня, например, как в следующем фрагменте этого списка:
(минералы) —...
(металлы, камни) —...
(редкие, обычные, сплавы) —...
(платина, серебро, золото) —.... 49
После однократного ознакомления со списком было воспроизведено 73 слова, а с третьей попытки — все 112. Д. Бродбент, П. Купер и М. Бродбент (Broadbent, Cooper & Broadbent, 1978) применили матричную форму организации, при которой понятия подвергались кросс-классификации относительно двух независимых семантических измерений. Были получены близкие результаты. Различие состояло лишь в том, что в случае ошибок при иерархической организации выпадали целые «ветви», а при матричном формате выпадения были распределены более равномерно. Очевидно, организация материала, причем не обязательно иерархическая, может быть очень эффективной, вносящей решающий вклад в улучшение воспроизведения. Вопрос, однако, состоит в том, можно ли считать эти два вида организации строго категориальными, ведь в обоих случаях испытуемым показывалась некоторая пространственная схема — иерархическое дерево классификации или двумерная матрица. Если на стадии ознакомления материал предъявлялся испытуемым последовательно, то уровень воспроизведения резко снижался, несмотря на сохранение категориальной организации. Эти данные скорее говорят о значении пространственных схем для запоминания вербального материала.
Схемы — это гипотетические конструкты, реконструируемые лишь в результате специальных экспериментов. Считается, что отдельные аспекты схем могут осознаваться в форме субъективных образов. Объяснение природы последних представляет собой одну из наиболее спорных проблем когнитивных исследований (см. 5.3.1 и 9.1.2). Теория двойного кодирования Паивио подчеркивает специфику образного кодирования, хотя сторонники данной теории не всегда способны достаточно ясно объяснить, в чем эта специфика состоит. Тяготеющие к формализации авторы трактуют образы как предложения некоторого «ментального языка». Интересным представляется мнение Найссера (1980). Если первоначально (в период «Когнитивной психологии» — см. 2.2.2) он считал образы своего рода ослабленным восприятием, то в последующие годы его точка зрения претерпела изменения. Вслед за Ж. Пиаже и П.Я. Гальпериным, он связывает образы с интериоризиро-ванными действиями.
В самом деле, практические действия и локомоции всегда ведут к изменению вида объектов и окружения. Выполняя некоторое действие, мы предвосхищаем изменения вида объектов, но поскольку эти изменения, как правило, и в самом деле наступают, нами осознается лишь изменение актуального восприятия. Как считает Найссер, образы — это неподтвержденные ожидания19. В случае идеальных (то есть проигрывае-
![]() 19 Неподтверждение ожиданий можно почувствовать в реальных условиях, например,
19 Неподтверждение ожиданий можно почувствовать в реальных условиях, например,
в форме легкого «удара» или «толчка», вступая на остановившийся эскалатор. Это зри
тельно-кинестетическое впечатление возникает и тогда, когда мы знаем и одновременно
отчетливо видим, что эскалатор неподвижен. Таким образом, речь идет об имплицитных,
50 а не об осознаваемых ожиданиях.
мых мысленно, интериоризированных) действий такие «неподтвержденные ожидания» становятся общим местом, а образы — одним из основных «элементов» нашей внутренней жизни. Конкретно это можно было бы описать так. На некотором этапе развития мы начинаем контролировать наши движения, начиная их идеомоторно, но затем задерживая, так чтобы они не реализовались в действительности. Наличие предвосхищения (в тех модальностях, которые используются для обратной связи о ходе действия, то есть прежде всего в зрительной и несколько менее заметно в тактильно-кинестетической форме) осознается нами при отсутствии реальных изменений как возникновение мысленного образа, очень похожего на реальное восприятие, но в то же время явно субъективного, нереального (см. 8.1.3 и 9.1.2). Лучшим средством контроля над действиями и над воображением, конечно, является речь, которая постепенно, как бы специально для решения этих задач инте-риоризируется и принимает форму внутренней речи (см. 4.4.3 и 7.3.2).
Действительно, как при мысленных вращениях (см. 5.3.1), так и при других трансформациях внутренних репрезентаций характер осуществляемых во внутреннем плане операций явно аналогичен физическим операциям, которые могли бы осуществляться и во внешнем пространстве. Так, в задаче мысленного складывания кубика из предъявляемой двумерной выкройки время реакции в точности отражало число необходимых пространственных операций (Shepard, 1978b). Еще одна серия экспериментов была посвящена изучению мысленного объединения отдельных фрагментов в более сложную конфигурацию, которая затем должна была сравниваться с тестовым изображением. Кратко результаты свелись к следующему: 1) целостные репрезентации действительно могут быть синтезированы; 2) в случае сложного материала, например условных, но довольно детальных изображений человеческих лиц, быстро обнаруживаются пределы возможности такого образного объединения. Чрезвычайно важен еще один результат — при словесном описании исходных фрагментов манипулирование происходит не со словами, а с их образными аналогами.
В другой работе (Cooper & Podgorny, 1976) мысленное вращение было
объединено с методикой вычитания Дондерса для изучения связи готов
ности к восприятию некоторого предмета с формированием образа этого
предмета. Испытуемым показывался знакомый символ (например, бук
ва «R») или его зеркальный вариант («Я»), повернутые из вертикального
положения на различный угол (30°, 60° и далее с шагом 30°). Необходи
мо было быстро решить, идет ли речь об обычном или зеркальном вари
анте буквы. Время реакции возрастало с увеличением угла поворота.
Основной результат состоял в том, что с помощью предварительной ин
формации можно было влиять на время ответа — в разных пробах испы
туемым вербально сообщалось, какой символ будет предъявлен, на ка
кой угол он будет повернут либо то и другое вместе. Функции времени
реакции полностью информированных испытуемых располагались ниже
функций, полученных в других условиях, и не зависели от угла поворо
та. Они также не зависели от того, как испытуемые получали предвари- 51
52
тельную информацию — раздельно об ориентации и идентичности или с помощью показа повернутого на нужный угол объекта. Это позволяет сделать вывод, что репрезентации, строящиеся на основе вербальной информации, представляют собой столь же эффективные эталоны опознания, как и сами буквы, показанные в повернутом положении.
Как отмечалось ранее (см. 5.3.1), обширная программа изучения зрительных образов проводится Стивеном Косслином и его сотрудниками (Kosslyn, 1981). Этот автор показал, что при мысленном сканировании представляемой карты пространственная близость играет ту же роль, как и при зрительном обследовании реальных карт: время реакции линейно растет с увеличением расстояния между сканируемыми точками. Более того, при визуализации объемных сцен время реакции определяется близостью объектов в трехмерном пространстве. Косслин приводит и другие аргументы в пользу гипотезы о связи представлений и восприятия. Он просил испытуемых одновременно представить двух животных, например кролика рядом со слоном или рядом с мухой. После того как испытуемые отвечали, что у них сформировался образ, их просили как можно быстрее определить, есть ли у кролика хвост или уши. Время ответа на один и тот же вопрос заметно увеличивалось, если кролик находился в паре со слоном, что, по мнению автора, свидетельствует, во-первых, об ограниченности размеров «поля зрения» мысленного взора и, во-вторых, об участии в выполнении подобной задачи особой мысленной операции изменения размеров представляемых объектов и их деталей (см. 8.1.3).
В некоторых работах этой группы речь идет о попытке психофизического анализа «поля зрения» мысленного взора (Finke & Kosslyn, 1980). Испытуемых просили представлять пары точек на-различном расстоянии от мысленной точки фиксации и определяли таким образом разрешающую способность мысленного «поля зрения». Оказалось, что его границы имеют те же слегка вытянутые в горизонтальном направлении очертания, что и границы реального поля зрения. В духе «внутренней психофизики» (см. 1.2.1) проводятся многие другие исследования в этой области. В одном из них (Моуег, 1973) испытуемым предъявлялись пары названий животных из списков типа: «муравей», «пчела», «крыса», «кошка», «баран», «корова», «слон». Положению животного в этом списке соответствует порядковая шкала различий размеров: от 1 («пчела»/«му-равей») до 6 («слон»/«муравей»). Время реакции при мысленном сравнении размеров пар животных было примерно обратно пропорционально логарифму этих различий, то есть чем выраженнее было различие величин, тем быстрее испытуемые могли ответить, какое из этих животных больше. Данный результат интересен постольку, поскольку та же зависимость известна для времени реакции сравнения изображений этих животных. Возможное возражение состоит в том, что испытуемые, поставленные перед необходимостью вообразить нечто, могли стараться описать то, как это выглядит в случае реального восприятия.
Нельзя ли найти какие-либо более серьезные, например нейро-психологические, доказательства связи восприятия со способностью образного представливания (визуализации)? Клинические наблюдения говорят о том, что выпадение определенного аспекта восприятия, например цвета, часто может сопровождаться выпадением того же качества и в образных представлениях. Однако имеются и другие данные, свидетельствующие о возможности полной двойной диссоциации зрительного восприятия и способности к визуализации объектов. В литературе описаны случаи, когда восприятие было полностью нарушено, но пациенты сохраняли способность к зрительному представливанию объектов, а также прямо противоположные случаи, когда при относительно нормальном восприятии визуализация объектов и сцен становилась невозможной20. О качественных различиях образов и восприятия говорят и некоторые экспериментальные данные.
Одной из работ такого рода было исследование Р. Шепарда и С. Джад-да (Shepard & Judd, 1976), сравнивших временные характеристики мысленного вращения и так называемого «ригидного стробоскопического движения». Последний феномен возникает, если предъявлять в пространственно-временном соседстве два объекта одной формы, но разной ориентации. Тогда при увеличении асинхронности включения стимулов до 200—250 мс можно увидеть, как движение объекта неопределенной формы сменяется движением объекта ригидной формы, который, поворачиваясь в пространстве, занимает то одно, то другое положение. По Шепар-ду и Джадду, скорости воспринимаемых (стробоскопическое движение) и лишь представляемых (мысленное вращение) преобразований примерно совпадают, что доказывает идентичность их механизмов. Анализ других данных, однако, не позволяет согласиться с таким выводом. Речь идет о различной зависимости этих феноменов от фактора фигуративной сложности. Сложность форм ускоряет мысленное вращение, возможно, задавая ориентиры для определения направления поворота. Напротив, в случае ригидного стробоскопического движения, как было показано нами совместно с Н.В. Цзеном (Величковский, 1973), усложнение формы объектов ведет к увеличению асинхронности включения стимулов, при которой возникает этот феномен. Таким образом, наблюдается расхождение параметрических зависимостей возникновения стробоскопического движения с поворотом объекта в пространстве и гипотетического процесса мысленного вращения.
Имеется ряд других, хорошо установленных различий между образами и восприятием. Так, например, при представливании и мысленном совмещении цветных поверхностей не возникает ничего, даже отдаленно
![]() 20 Надо сказать, что даже в норме способность к генерированию и удержанию образов
20 Надо сказать, что даже в норме способность к генерированию и удержанию образов
подвержена сильным индивидуальным колебаниям. Согласно наблюдением Фрэнсиса
Гальтона, примерно у 10% людей наглядные образы интроспективно отсутствуют (см.
9.1.3). Вполне возможно, что это обстоятельство, по крайней мере отчасти, объясняет
противоречивость эмпирических результатов и остроту дискуссий, традиционно связан
ных с проблемой образов. 53
напоминающего эффекты перцептивного смешения цветов. Аналогично кажущиеся размеры визуализированных объектов не зависят от расстояния до находящегося в поле зрения проекционного экрана. Иными словами, здесь не выполняется закон Эммерта, согласно которому величина последовательных образов — так сказать «ослабленных копий» предыдущей сенсорной стимуляции — возрастает прямо пропорцио^ нально удаленности экрана (по давним данным Марбургской психологической школы, закон Эммерта в несколько ослабленной форме описывает также поведение эйдетических образов — см. 3.1.1 и 5.3.1).
Особенно интересные результаты были получены с многозначными фигурами, допускающими различные семантические интерпретации (рис. 6.9). При реальных поворотах этих фигур мы довольно легко узнаем либо одно, либо другое изображение. При мысленном вращении реинтерпретация образа почему-то оказывается невозможной: если испытуемому, не знающему о существовании двух возможных интерпретаций, показать фигуру в положении, оптимальном для одного из восприятий, а затем предложить мысленно повернуть ее в положение, объективно способствующее узнаванию второго объекта, то такое узнавание спонтанно не возникает. Пылишин (Pylyshyn, 2003) считает, что здесь проявляется самое главное свойство, отличающее мысленные образы от чувственного восприятия — в отличие от наблюдаемой сцены, предмета или изображения, мысленный образ не может быть семантически интерпретирован, поскольку он сам есть всего лишь семантическая интерпретация.
Используя признак величины, С. Косслин (Kosslyn, 2003) попытался в последние годы провести критическую нейрофизиологическую проверку аналого-перцептивной (теория кортикального дисплея — см. 5.3.1 и 9.1.2) и пропозициональной трактовок образов. В психофизиологических экспериментах он предлагал испытуемым зрительно представлять большие или маленькие объекты. Методика ПЭТ-сканирования выявила при этом возникновение ряда локусов активации, прежде всего в затылочных отделах коры. Самый интересный результат состоял в том, что размеры активированных участков зрительной коры бьши больше при визуализации крупных объектов. Если величина образа объекта — это абстрактный (символьный) параметр некоторого логического суждения,
|
|
|
Рис. 6.9. Попробуйте, мысленно вращая эти фигуры (и не меняя их ориентации относи
тельно головы), определить, что они означают. Затем сделайте то же самое, вращая сами
54 фигуры.
то трудно было бы ожидать возникновения подобного соответствия между характеристиками образа и пространственными параметрами активации зрительных структур мозга. Надо сказать, однако, что далеко не все авторы, проверявшие этот результат Косслина, смогли его подтвердить. Лишь в самое последнее время были получены данные, подтверждающие несколько более слабое утверждение о том, что во время образного представливания возможна активация областей первичной кортикальной обработки сенсорной информации (например, зон VI для зрения и AI для слуха — см. Nyberg, 2002).
В пользу зависимости визуализации от пространственного внимания говорят данные итальянского нейропсихолога Эдуардо Бизиака (например, Bisiach & Luzzati, 1978). В его исследованиях участвовали пациенты с синдромом игнорирования левой половины пространства (см. 4.4.3). Важной особенностью этого нарушения является то, что оно не осознается пациентами и, следовательно, они не могут подготовить ответы, соответствующие ожиданиям экспериментатора. Бизиак предлагал таким пациентам в ряду других заданий задачу на образную память. Они должны были представить, что приближаются ко входу в Миланский собор (все эти пациенты были жителями Милана). Далее он просил их рассказать, что они при этом видят. Пациенты описывали лишь те здания, которые находятся справа от входа, скажем, музей истории города, игнорируя архитектурные достопримечательности, расположенные слева. Через несколько недель в процессе другого обследования Бизиак неожиданно просил тех же пациентов рассказать, что они могли бы увидеть, выходя из Миланского собора. В этом случае они подробно описывали противоположную сторону площади, упоминая знаменитую торговую галерею, но не музей истории города! Увы, эти красивые наблюдения также были релятивизированы впоследствии рядом демонстраций независимости проявлений синдрома игнорирования в восприятии и в зрительных представлениях (Beschin, Basso & Delia Sala, 2000).
Рассматривая этот материал, следует признать существование массы противоречивых данных, особенно в тех случаях, когда образные представления трактуются как элементарные сенсорные феномены или, по меткому замечанию Зенона Пылишина, как картинки, которые одна часть мозга показывает другой. Мы отложим обсуждение этих философских и теоретико-методологических вопросов до последних глав книги (см. 8.1.3 и 9.1.3) и попытаемся выделить «сухой осадок» более чем 30-летней истории когнитивных исследований образных явлений.
Первый результат состоит в том, что образы явно отражают абстрактное знание схем действий и манипуляций с объектами. Их трехмерный пространственный каркас схематичен, несводим к определенной модальности, даже такой важной, как зрение. Об этом говорят следующие факты. Интерференция вторичной задачи с процессами зрительного представливания возникает не по принципу «загрузки» той же сенсорной модальности, а по принципу общих пространственно-действенных компонентов, например, как в описанных ранее экспери-
55
ментах Алана Бэддели (см. 5.2.3), где вторичная задача заключалась в отслеживании движущейся акустической цели. Кроме того, практически все эффекты зрительных образов, типа мысленного вращения в трехмерном пространстве, наблюдаются и у слепых от рождения испытуемых. Здесь мы, возможно, имеем дело с априорным знанием, особен-, но если учесть, как рано интермодальные пространственные операции оказываются доступны младенцу (см. 3.4.3). В этой и предыдущей главах часто отмечалась важная роль пространственных схем в организации памяти, но не меньшее значение они имеют для структурирования процессов коммуникации и мышления (см. 7.1.3 и 8.2.3).
Второй фундаментальный результат заключается в установлении как сходства, так и ряда качественных различий между образами и восприятием. Существование подобных различий не позволяет более считать образные представления просто «ослабленными копиями» предыдущих сенсорных воздействий (см. 1.1.2 и 6.4.2), особенно в случае «продуктов» нашего творческого воображения, часто имеющих гипотетический и даже явно фантастический характер (см. 8.1.3).
Третий результат продемонстрировал связь воображения с речью. Дело в том, что между различными по происхождению форматами представления знаний могут быть установлены систематические отношения, например, отношения сходства или контраста. Такие отношения, в частности, могут быть связаны с разделением сцены на фигуру и фон (см. 1.3.1). Фигура обычно меньше, подвижнее, ярче и ближе, чем фон. Соответственно, фон оказывается обширным, стабильным, гомогенным и отодвинутым на задний план — он образует систему отсчета для характеристик фигуры. Манипулируя этими отношениями, можно влиять на воображение. Так, в выражениях «X рядом с Y» первый член выполняет функцию фигуры, а второй — фона. Поэтому если мы слышим или читаем «Мышь рядом со слоном», то представляемая мышь оказывается маленькой и подвижной. Когда же мы слышим «Слон рядом с мышью», то мышь как бы увеличивается в размерах, в пределе превращаясь в серую неподвижную массу. При этом сохраняются неизменными как характер заполнения «мысленного поля зрения», так и знаемые размеры животных. Лексико-грамматические средства построения образов будут рассмотрены нами в следующей главе (см. 7.3.2).
Нейрофизиологические корреляты этих эффектов в настоящее время интенсивно исследуются, так что можно с высокой степенью уверенности установить круг участвующих мозговых механизмов. Как и в случае реальных восприятий, собственно визуальные (цвет, форма и величина) и пространственные (относительная локализация) характеристики зрительных образов кодируются различными структурами коры, а именно затылочными и, соответственно, заднетеменными отделами в основном правого полушария. Наблюдаемая при этом спорадическая активация левого полушария предположительно связана с находящимися под вербальным контролем процессами произвольного генерирования
и манипулирования образной информацией (см. 4.4.2). Творческое воображение вовлекает также структуры префронтальной коры, в особенности справа (см. 8.4.3). Нейропсихологические данные свидетельствуют далее о том, что визуализация знакомых предметов и их расположения может диссоциировать с процессами ориентации в пространстве. Иными словами, знание пространственного окружения связано с несколько иными механизмами, чем собственно образная память и процессы визуализации предметов и предметных сцен.
6.3.2 Репрезентация пространственного окружения
Со времени работ Эдварда Толмена (см. 1.3.3) субъективные репрезентации непосредственного пространственного окружения, а также макропространства принято называть когнитивными картами. Несмотря на совершенствование методик и постоянный рост числа исследований, многие особенности наших субъективных представлений об окружающей пространственной среде до сих пор не вполне ясны. В том числе спорным остается вопрос о степени соответствия когнитивных карт реальной топографии местности. Такое соответствие, конечно же, не может быть полным. Ни один человек не помнит всех деталей и особенностей даже того района, в котором живет. Так, например, хорошо известно, что когнитивные карты города весьма схематичны и отражают лишь самые основные элементы городских массивов, называемые в литературе «ориентирами», «путями», «районами» и «границами». В первую очередь в этой связи возникает вопрос о том, насколько точно наши внутренние представления отражают метрику внешнего пространства.
Противоположные ответы на данный вопрос даются представителями радикальной теории образов и пропозициональных концепций (см. 5.3.1). Первые полагают, что когнитивные карты подобны картам местности и содержат метрическую информацию. Вторые считают, что знание о пространственном окружении фиксировано в форме набора утверждений, отражающих лишь порядковые отношения ориентиров. Если эта последняя точка зрения справедлива, следует ожидать возникновения грубых ошибок в оценке расстояний и направлений. Эти ожидания подтверждаются в ряде экспериментов, которые мы обсудим ниже. Вместе с тем, имеются данные о том, что метрическая информация, несомненно, присутствует во внутренних репрезентациях пространства. Так, например, согласно многочисленным исследованиям, при сравнении близости зданий университетского городка студенты дают ответы, латентное время которых линейно растет с увеличением реальной дистанции.
Возникшие противоречия могут быть устранены, если учесть, что характеристики пространственных репрезентаций, несомненно, различны на разных этапах освоения пространства и при решении разных 57
задач. Можно предположить, что репрезентация слабо освоенного пространства содержит прежде всего информацию о топологии, то есть о порядке расположения объектов-ориентиров по одному или нескольким избранным маршрутам передвижения. Хорошо знакомая местность, напротив, представлена скорее в виде векторной карты, примерно отражающей реальные направления и расстояния между основными ориентирами.
Мы приходим, таким образом, к разграничению карты-пути и карты-обозрения, впервые введенному около 50 лет назад русским психологом Ф.Н. Шемякиным. Исследуя развитие пространственных представлений, он установил, что у ребенка вначале формируются репрезентации первого, топологического типа. Лишь в процессе дальнейшего развития и освоения среды (эти два фактора не были разведены в наблюдениях Шемякина) в опыте ребенка начинают появляться репрезентации второго, обзорного типа. При переходе к обзорному знанию, в частности, становится возможным нахождение пути в обход фиксированных маршрутов. Примерно те же этапы можно обнаружить и у взрослых, осваивающих новый город или любую другую новую для себя среду. Например, авиадиспетчеры, начинающие работать в новой зоне управления воздушным движением, при воспроизведении по памяти основных ориентиров делают это шаг за шагом, вдоль тех коридоров, по которым они проводят самолеты. На стадии освоенного пространства порядок реконструкции становится иным: последовательные уточнения положения часто относятся к ориентирам, между которыми самолеты могут и не летать (Величковский, Блинникова, Лапин, 1987).
Рассмотрим эти два вида знания несколько подробнее. Во-первых, карта-путь совсем не обязательно есть некоторое целостное представление маршрута, даже в форме траектории. Ее основу могут составлять отдельные операции, имеющие характер автоматизированных процедур и фиксирующие способы действия в ответ на появление того или иного ориентира. Простое изменение привычного направления движения по некоторому маршруту может поэтому приводить к ошибочным действиям. Так, используя в течение длительного времени для поездок на работу одну и ту же линию метро, можно выучить нечто вроде следующего имплицитного правила: «Если [станция «Охотный ряд»], то [выходи из вагона и сразу иди направо]». Понятно, что при внезапном изменении направления движения к этой станции на противоположное такое процедурное знание должно автоматически вести нас в противоположную от нужной нам цели сторону. О связи карты-пути с процедурными формами знания говорит и тот факт, что она, по-видимому, может формироваться и при отвлечении внимания испытуемого на стадии обучения (Presson, DeLange & Hazelrigg, 1989).
Надо сказать, что карта-обозрение также может лишь с большой долей условности быть названа «картой». Хотя эта форма знания допус- кает возможность метрических оценок расстояний, более детальный
анализ выявляет систематические искажения пространственных параметров. Согласно данным многомерного шкалирования расстояний, группы относительно близких и хорошо знакомых объектов — например, наиболее заметные здания университетского кампуса или центра города — еще более сближаются друг с другом, образуя своеобразный пространственно-семантический кластер, или «точку», внутри которой расстояния недооцениваются, а вне — переоцениваются. При изменении масштаба рассмотрения сама такая «точка» развертывается в полноценную когнитивную карту. Зрелые репрезентации окружения образуют, таким образом, нечто вроде иерархии вложенных друг в друга (наподобие матрешки!) и развертываемых по мере необходимости про-станственно-семантических систем отсчета (см. 3.1.2).
Эта форма организации знания обнаруживает следы использования РЕКУРСИИ — глобальной метапроцедуры, существенной также для речевых функций и математических навыков (см. 1.3.3 и 8.1.3). Наличием иерархических систем отсчета объясняются искажения дистанций и направлений в наших представлениях о макропространстве. Даже знакомые с географией люди обычно с недоверием относятся к информации, согласно которой Дрезден находится ближе к Праге, чем к Берлину. Аналогично, лишь 1 из 10 проживающих в Центральной Европе испытуемых (в России или Америке данные могут быть несколько другими) согласны с правильными утверждениями, что канадский Торонто или российский Хабаровск расположены южнее, чем Париж, а Сантьяго-де-Чили — восточнее, чем Нью-Йорк. Почему трудности возникают именно в этих случаях? Рассмотренные примеры демонстрируют организацию знания в соответствии с такими таксономическими единицами, как страны (внутри страны расстояния кажутся меньше, чем между странами), географические пояса (Франция находится на юге, а Россия и Канада — на севере) и континенты. В последнем случае ошибочные оценки возникают потому, что, хотя Сантьяго-де-Чили находится на западном побережье, а Нью-Йорк — на восточном, южная часть американского континента в целом смещена на восток по сравнению с северной.
Пространственные репрезентации могут включать третье измерение, что типично для авиадиспетчеров, которые должны отслеживать не только положение проекции самолета на земную поверхность, но обязательно и высоту («эшелон») полета. Присутствие третьего измерения очевидно в когнитивных картах жителей высотных зданий, причем оценка расстояний зависит здесь также от типичного времени ожидания лифта. Искажения по типу взаимодействия времени и пространства наблюдаются у таксистов, которые склонны оценивать пространственную протяженность знакомой улицы не только в зависимости от ее реальной длины, но и в зависимости от числа светофоров. Дополнением этой картины служат полученные в последнее время данные о том, что присутствие в окружении объектов, субъективно оцениваемых как опасные, также искажает метрику психологического пространства. Расстояния до таких 59
объектов систематически переоцениваются, что может свидетельствовать о возникновении своеобразных эмоционально-аффективных барьеров (Блинникова, Капица, Барлас, 2000). Эти данные соответствуют наблюдениям Курта Левина, описавшего в ранней статье «Военный ландшафт» (1917/2001) искажения метрики психологического пространства, которые возникают в зависимости от градиентов опасности21.
С учетом этих данных можно сделать вывод, что имеется множество различных аспектов пространственного знания. Они зависят не только от чисто пространственной информации, включая как декларативные (знание «что?»), так и процедурные (знание «как?») компоненты. Соотношение этих компонентов может меняться в процессах развития, но обычно они сосуществуют в репрезентациях любой сколько-нибудь сложной пространственной среды. Даже при работе с информацией, известной нам, главным образом, по картам, речь идет не просто о более или менее точной двумерной проекции некоторой территории, сколько о сложной, часто иерархически организованной конструкции, включающей также концептуальную информацию. Эти же свойства, кстати, можно обнаружить и в случае многих, особенно старых карт22. На рис. 6.10 показана карта, составленная главным инспектором мостов и дорог наполеоновской Франции М. Минаром. Она изображает траекторию движения «Великой армии» по направлению к Москве и обратно. Наряду с чисто топографической информацией, эта карта содержит информацию о численности личного состава, датах и, кроме того, об изменениях температуры.
Все это говорит о том, что введенный в психологию Толменом термин «когнитивная карта», несомненно, чрезмерно упрощает суть дела. По мнению психолога из Стэнфордского университета Барбары Тверс-ки (Tversky, 2000), значительно более адекватным представляется термин «когнитивный коллаж:», отражающий комбинацию образных и вербальных форм знания. Далее, хорошо известная из клиники ней-ропсихологических нарушений связь пространственной ориентации с заднетеменными структурами коры (так называемый дорзальный по-
![]() 21 Холм, который при обороне кажется маленьким, не укрывающим от снарядов, ста
21 Холм, который при обороне кажется маленьким, не укрывающим от снарядов, ста
новится огромным при наступлении, когда через него приходится тащить пушки. Рас
стояния по направлению к линии фронта кажутся сжатыми, а в направлении тыла, на
против, растянутыми и т.д. К этим наблюдениям можно добавить еще два факта. Во-пер
вых, оценки расстояний часто необратимы: расстояние от заурядного объекта А до неко
торого заметного ориентира Б оценивается как большее, чем расстояние от Б до А. Во-
вторых, расстояния до объектов, не включенных в обычные маршруты передвижения,
как правило, переоцениваются.
22 По этому же принципу строятся современные мультимедийные карты, которые при
их просмотре могут рассказать пользователю о погоде в соответствующем регионе, обра
тить его внимание на достопримечательности и сообщить массу полезной информации.
Возможны и другие варианты использования мультимедийных карт. Так, система управ
ления боевыми действиями ODIN 4-Dпозволяет с точностью до сантиметров предста-
60 вить окружающую местность в разное время суток и при любых погодных условиях.
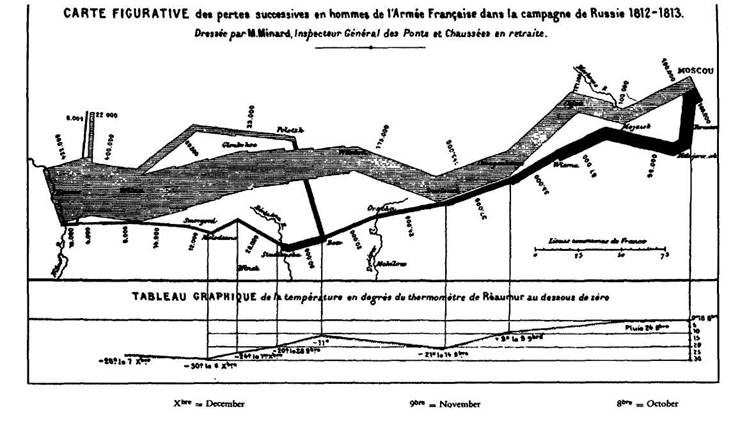
Рис. 6.10. Карта московского похода Наполеона, содержащая данные об изменениях численности французской армии и температуры воздуха.
а>
ток, или бернштейновский уровень пространственного поля С — см. 3.4.2) находит свое выражение в данных о тесной связи этой формы знания с опытом осуществления движений и действий в соответствующей среде. Наконец, как мы могли убедиться, структурирование пространственного знания зависит также и от эмоционально-аффективных оценок отдельных объектов и участков окружения. Не менее сложными оказываются и наши представления об организации событий во времени, к рассмотрению которых мы и переходим.
6.3.3 Сценарии и грамматики историй
Схемы событий отличаются от схем сцен решающим значением временного измерения. Хотя последовательности событий могут быть классифицированы и, как показывают эксперименты по селективному зрительному наблюдению (см. 4.2.1), эффективно разделены, длительное время эта область оставалась практически белым пятном в исследованиях когнитивной психологии, посвященных преимущественно запоминанию списков слов и категориальной организации семантической памяти. Одним из ранних примеров анализа запоминания событий могут служить работы A.A. Смирнова (1966), просившего своих сотрудников (он был директором психологического института) рассказать обо всем, что с ними случилось по дороге к месту работы. Роль схематизированного знания выступила в том, что обычно запоминались эпизоды, нарушавшие привычное течение событий. Очевидно именно этот результат можно было бы ожидать на основе «закона Клапареда» — подобные эпизоды лучше осознаются, а следовательно, и лучше фиксируются эпизодической памятью (см. 1.2.3 и 5.2.2).
В современной когнитивной науке имеется два основных направления, занимающихся анализом психологического структурирования «потока времени»: более эмпирическое и скорее теоретическое, связанное с формализацией последовательностей событий. Первое направление пытается выявить эмпирические основания для разделения отдельных событий, эпизодов и действий. Несмотря на чрезвычайную популярность этих терминов, в психологии, лингвистике и философии до сих пор нет четких операциональных критериев для их разделения (Tversky, Morrison & Zacks, 2002). Исследования когнитивной структуры событий выявляют отчетливую тенденцию к предпочтению иерархической классификации, при которой более дробные единицы включаются в состав более глобальных, охватывающих продолжительные отрезки времени.
В экспериментах наблюдателям обычно предлагается разбивать ви
деозаписи некоторых привычных событий на последовательные круп
ные или, напротив, мелкие сегменты. Нужно отмечать естественные пе-
62 рерывы в развитии событий, причем выполнение этой задачи может
сопровождаться или не сопровождаться речевым комментарием. Вопрос состоит в том, входят ли мелкие сегменты в состав крупных без остатка (признак иерархической классификации) или же дробное разбиение основано на независимых критериях, так что границы мелких и крупных событий не совпадают. Результаты в целом подтверждают гипотезу иерархической классификации, особенно если испытуемые вербально описывают основания для своих ответов. Крупные эпизоды выделяются на основании целей соответствующих действий. При этом словесный комментарий обязательно включает наименования предметов — приготовить постель или помыть посуду. Используя терминологию теории деятельности (см. 1.4.3), можно сказать, что локальные эпизоды скорее связаны с отдельными операциями. Так, приготовление постели предполагает серию манипуляций с простынями — достать, развернуть, набросить, заправить один край, заправить другой, натянуть, поправить и т.д. При речевом описании оснований для выделения таких мелких эпизодов часто упоминаются лишь глаголы, а названия предметов заменяются местоимениями или же совсем опускаются23.
Второе направление исследований возникло под влиянием задач создания машинных систем, «понимающих» и резюмирующих фрагменты текста. Р. Шенк и Р. Абельсон (Schank & Abelson, 1977) первыми описали «скрипты», или сценарии, привычных событий, таких как посещение ресторана или поездка в другой город. Всякий сценарий состоит из ряда актов или эпизодов, каждый из которых, в свою очередь, разбивается на более дробные единицы, причем конкретное их значение может зависеть от культурных и социальных факторов. Так, в сценарии посещения ресторана последовательность появления сыра и десерта будет различной в зависимости от того, происходит ли действие в Англии или во Франции. Гордон Бауэр и его сотрудники (например, Bower, 1975) приводят некоторые факты, свидетельствующие об организующей роли сценариев при воспроизведении и придумывании рассказов. Например, зная, что по ходу действия некоторый персонаж посетил ресторан, можно с высокой степенью уверенности реконструировать или же сконструировать цепочку связанных с этим банальным событием элементарных эпизодов.
Одновременно в литературоведческих работах появились первые классификации фрагментов прозы — описаний, объяснений, шуток, историй и т.д., внутри которых отдельные предложения выполняют определенные функции. Некоторые из фрагментов текста развиваются от
![]() 23 Не исключено, что подобное иерархическое расчленение, по крайней мере отчасти,
23 Не исключено, что подобное иерархическое расчленение, по крайней мере отчасти,
является функцией речи. Во-первых, данные оказываются более устойчивыми при вер
бализации оснований для принимаемых решений и выбора названия сегментов. Во-вто
рых, как показывают последние исследования (Stutterheim & Nuese, 2003), грамматичес
кие переменные конкретного языка, например присутствие в нем несовершенной фор
мы глаголов, позволяющей описывать текущее действие, меняют спонтанную грануляр
ность разбиения (см. 8.1.2). 63
общего к конкретному, другие — в противоположном направлении, в третьих происходит чередование тематики в целях сравнения и подчеркивания контраста, в четвертых детали изложены в хронологическом или пространственном порядке либо скомпонованы так, чтобы привести к кульминации (см. также 8.1.3). Знание правил организации парат графов позволяет замечать, когда в некотором тексте происходит отклонение от допущенных вариантов.
По сути дела, речь идет о жанрах. Первоначально это понятие применялось по отношению к литературному материалу (роман, рассказ или, скажем, мадригал), но в последнее время стало использоваться значительно более широко. Например, жанр «письма, содержащего деловое предложение», причем в его специфической форме, характерной для англоязычного делового мира, обычно предполагает, что письмо строится по следующей схеме: 1. Источник сведений о фирме-адресате; 2. Содержание предложения; 3. История своей фирмы; 4. Обоснование предложения; 5. Формулировка условий; 6. (Другие предложения и их условия); 7. Выражение надежды на сотрудничество; 8. Сердечное завершение. Не менее строго регламентирован жанр научной статьи. Так, статья по экспериментальной психологии обычно состоит из таких частей:
I. Название; 2. Резюме; 3. (Введение); 4. Проблема; 5. Методика; 6. Ре
зультаты; 7. Обсуждение результатов; 8. (Повторение 5.-7. для следу
ющей серии экспериментов); 9. (Благодарности); 10. Библиография;
II. (Приложения). В скобках указаны возможные, но не обязательные
части. Жанр научной публикации, как известно, в целом имеет свои осо
бенности. Он, в частности, не позволяет использовать для аргументации
ссылки на эзотерику любого рода. Совершенно иначе, конечно, выгля
дит жанр проповеди.
При таком разнообразии вариантов поиск лексико-грамматических критериев специфики жанров представляется практически безнадежным делом. Для решения этой задачи полезно рассмотрение более абстрактных и гомогенных разновидностей текстов, называемых пассажами. Их число ограничено следующими основными видами: 1. Нарративные, или повествовательные; 2. Дескриптивные, или описательные; 3. Объяснительные; 4. Инструктивные; 5. Убеждающие, или аргументативные. Связь с речевыми механизмами здесь оказывается более устойчивой. Например, в повествовательных пассажах естественно ожидать использования прошедшего времени совершенных глаголов. Некоторые разновидности жанров могут быть результатом комбинации нескольких видов пассажей — в рассказах доминируют нарративные пассажи, но обязательно должна присутствовать также экспозиция времени, места и действующих лиц, то есть описательная часть.
Одним из источников современных исследований схематической организации текстов являются идеи этнографа и литературоведа Владимира Яковлевича Проппа (1895—1970). Проанализировав особенности волшебных сказок, он показал, что все они, при большом внешнем раз-64 нообразии, имеют довольно устойчивую и поэтому легко воспроизво-
димую внутреннюю структуру. Мельчайшей единицей сказочного повествования он предложил считать «функцию» — действие героя, важное для развития повествования. Согласно проведенному им анализу, любой сказке соответствует примерно 30 функций, порядок следования которых в различных текстах примерно одинаков. Так, в самом первом приближении, в любой из сказок должен быть герой (Иван-царевич, Иванушка-дурачок, Снегурочка24 и т.п.). Кроме того, в начале волшебной сказки («Иных форм завязок в волшебной сказке не существует» — Пропп, 1969, с. 39) всегда фиксируется некоторая «недостача» или «вредительство». Действия героя направлены на устранение рассогласования действительности и желаемой ситуации. При этом с героем происходят разнообразные приключения, часто образующие некоторый почти замкнутый круг или спираль: герой покидает (или вынужден покинуть) дом, совершает ошибки и подвергается на своем пути разнообразным испытаниям, но рано или поздно добывает волшебное средство (перо жар-птицы, живую воду, скатерть-самобранку), возвращается домой, выясняет отношения с лжегероем, решает все заданные ему задачи, женится и восходит на трон — становится хозяином в доме.
За прошедшие десятилетия в литературоведении и культурологии предпринимались многочисленные попытки, с одной стороны, «укоротить» предложенную Проппом формулу, а с другой, вывести ее за границы сказочного повествования, распространив, например, на анализ современных киносюжетов (см. 9.4.2). Эти идеи получили дальнейшее развитие в когнитивной психологии и работах по искусственному интеллекту, где были созданы различные варианты формализованных сценариев или грамматик историй, иногда записываемые в алгоритмизированной форме с помощью систем продукций (рис. 6.ПА).
Как правило, всякая история, неважно сказочная или реалистическая, начинается с порции сведений, позволяющей слушателю (читателю) сориентироваться во времени и пространстве, а также познакомиться с некоторыми действующими лицами, потенциальными героями повествования («Давным-давно в некотором царстве, в некотором государстве жил царь и было у него три сына...»). События, описанные в истории, состоят из ряда эпизодов. Каждый эпизод имеет свою собственную структуру, включенную в контекст мотивов и целей действующих лиц, и т.д. На рис. 6.11Б показана одна из возможных схематических репрезентаций следующей, состоящей из трех эпизодов истории: «У фермера была корова, которую он хотел загнать в стойло. Он попытался затолкнуть ее, но корова не двигалась с места. Тогда фермер приказал собаке залаять и загнать корову в стойло. Но собака не захотела лаять, пока
![]() 24 Пропп различает активных («ищущих») и пассивных («страдающих») героев. Жен
24 Пропп различает активных («ищущих») и пассивных («страдающих») героев. Жен
ские персонажи, такие как Снегурочка, чаще всего относятся ко второй категории. В этом
случае соответствующим образом меняется и существенно упрощается характерный сце
нарий развития событий. 65
А РАССКАЗ -> ОРИЕНТИРОВКА + ТЕМА + ЗАВЯЗКА + РАЗВЯЗКА ОРИЕНТИРОВКА -> ВРЕМЯ + МЕСТО + АКТОРЫ ТЕМА -» (СОБЫТИЕ)* + ЦЕЛЬ ЗАВЯЗКА -» ЭПИЗОД*
ЭПИЗОД -> ПОДЦЕЛЬ + ПОПЫТКА* + РЕЗУЛЬТАТ ПОПЫТКА -» [СОБЫТИЕ*] [ЭПИЗОД] РЕЗУЛЬТАТ^ [СОБЫТИЕ*] [СОСТОЯНИЕ]
РАЗВЯЗКА -» [СОБЫТИЕ] [СОСТОЯНИЕ] [ПОДЦЕЛЬ] [ЦЕЛЬ] -» ЖЕЛАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ,
где () — возможный, но не обязательный элемент структуры, * — элемент, который может повторяться, [ ] — альтернативы
|
Рис. 6.11. Схематическая организация текста (по: Thorndyke, 1977): А. Система продукции: «грамматика рассказа»; Б. Схема приведенной в тексте истории с фермером.
фермер не даст ей мяса. Пришлось фермеру сходить в дом, взять там еду и дать ее собаке. После этого собака залаяла, корова испугалась и вбежала в стойло» (по Thorndyke, 1977)25.
![]() 66
66
25 Явная, легко формализуемая в виде грамматики структура по типу только что описанной часто полностью отсутствует в более гомогенных эпизодах общения, прежде всего, в повествовательных {нарративных) эпизодах, разворачивающихся в хорошо знакомом участникам коммуникативном контексте, например, в контексте «бесед детей и родителей за обеденным столом» (Capps & Ochs, 2002). Несмотря на отсутствие явной ориентировки и фактического окончания («развязки»), такой ритуал рассказа и моральной оценки со стороны родителей служит важным механизмом социализации в условиях европейской и ряда других культур.
Насколько увлекательными могут быть следствия из анализа схематической организации знания, доказывают работы одного из ближайших сотрудников Конрада Лоренца, немецкого психолога Норбер-та Бишофа (Bischof, 1996). Опираясь частично на идеи В.Я. Проппа и французского антрополога Клода Леви-Стросса, он построил всеобъемлющую когнитивно-поведенческую теорию развития личности. При этом Бишоф попытался критически рассмотреть в едином контексте гигантский этнографический материал, психоаналитические представления о стадиях психосексуального развития и, наконец, данные современных когнитивных исследований онтогенеза. Эти последние данные говорят о чрезвычайно раннем становлении основных функций восприятия, а затем и памяти, что служит предпосылкой приобретения знаний.
Появившаяся в результате прогресса экспериментальных исследований возможность реконструкции процессов индивидуального «создания мира» — становления познавательного и эмоционального отношения ребенка к окружению и себе позволяет объяснить мифы не как неизвестно откуда взявшиеся откровения, а как воспоминания — коллективную память человечества о ранних фазах культурогенеза, связанных также со стадиями развития сознания в онтогенезе. Вместо того чтобы объявлять, как это характерно для психоанализа, сознание ребенка и в значительной степени обыденное сознание взрослого мифологическим, Бишоф, напротив, рассматривает мифологический и сказочный материал в контексте возможных проявлений типичного детского и подросткового сознания.
В самом деле, мифы и волшебные сказки удивительным образом отражают психологические особенности важнейших стадий отногенеза ребенка26. Древнейшие космогенические мифы, адекватное представление о которых дает первая страница Ветхого Завета, соответствуют, согласно этой точке зрения, развитию сознания в первые два года жизни. Мотивы инцеста и табу, первичного греха и изгнания из рая соответствуют появлению примерно в возрасте 4 лет индивидуальной теории психики — знания о знаниях других как отличных от собственных (см. 5.4.3 и 8.1.1). Эта стадия развития сопровождается рефлексивным разделением себя и другого, которое ведет к сексуальной самоидентификации и прерывает постоянные и до тех пор в определенном смысле симметричные связи с каждым из родителей. Описывая возникающие при этом проблемы как эдипов комплекс (или, соответственно, комплекс Электры у девочек), психоанализ, по мнению Бишофа, лишь регистрирует драматизм происходящих изменений, но полностью ошибается в их трактовке, так как для этого возраста в действительности характерен интерес к установлению более прочных отношений с родителем того же пола. Наконец, типичный пропповский материал, центрированный на герое вол-
![]() 26 Проблеме мифологического сознания и его проявлению на разных этапах онтоге
26 Проблеме мифологического сознания и его проявлению на разных этапах онтоге
неза посвящена необъятная литература, которая по понятным причинам лишь в редких
случаях подкреплена эмпирическими исследованиями (см. 6.4.3). 67
шебной сказки, объясняется как отражение подросткового возраста, связанного с попыткой или попытками взять на себя груз взрослой ответственности. С этой точки зрения, описанная в Новом Завете история Иисуса из Назарета представляет собой разновидность волшебной сказки, маркирующей окончание подросткового возраста человечества.
Как сценарии, так и схемы историй имеют иерархическую структуру, что напоминает организацию внутри родо-видовых категорий, но для сценариев характерна ограниченность числа единиц, представленных на каждом уровне описания. Развертка событий в схематических структурах детерминирована относительно жестко. Причинно-следственные связи соседствуют здесь с переходами, обусловленными социальными и просто ситуативными факторами. При этом связи внутри эпизодов определеннее и прочнее связей между эпизодами. Кроме того, схематическая организация обычно более эксплицитна и скорее доступна сознательному контролю, чем рассмотренная в предыдущем разделе внутрипонятийная организация знания (последняя часто может быть выявлена лишь в результате математической обработки данных). Семантика обыденного сознания {поэтического сознания, по Тулвингу — см. 4.4.3 и 5.3.2) связана, таким образом, преимущественно со схематическими, межкатегориальными формами организации знания.
Это обстоятельство позволяет использовать данную форму знания как эффективное средство поддержки восприятия, понимания, а также последующего воспроизведения. Относительно правдоподобное воспроизведение оказывается возможным даже в том случае, если сама информация в значительной степени забыта или вообще отсутствовала. Иногда схематическая организация описывается как главное средство структурирования лингвистической и невербальной информации: всякое понимание, с этой точки зрения, предполагает выбор схем (предикатов) и связывание их переменных (аргументов) с актуальными значениями компонентов предложений письменной или устной речи, а также параметров наблюдаемых сцен и событий.
Схематическая организация в этих описаниях очень похожа на апперцептивную организацию мышления в понимании Вундта (см. 1.2.2). Фундаментальное значение имеет то обстоятельство, что примерно одинаковые структуры описывают организацию индивидуальной семантической памяти взрослого, схематическое строение типичных рассказов и таких универсальных «продуктов человеческого духа», как сказка. Несомненно, одна из функций сказки состоит в передаче средств запоминания, интерпретации и моральной оценки объединенных единым сюжетом событий — средств, без которых невозможно ни планирование действий, ни подлинное понимание сколько-нибудь сложных социальной ситуаций. В этом состоит значение работы таких исследователей, как В.Я. Пропп и Н. Бишоф, для самых разных разделов когнитивных исследований, выходящих за рамки антропологии и психологии. Инте-
ресно, что к историческому и литературоведческому анализу обычаев, мифов, особенностей естественного языка призывал уже Вильгельм Вундт, считавший их главным объектом изучения своей десятитомной «Психологии народов».
6.4 От представления знаний к мышлению
6.4.1 Глобальные когнитивные модели
Представления о процессах преобразования символьной информации, как основе наших познавательных достижений (см. 2.2.3), были использованы в второй половине 1970-х годов авторами, поставившими своей целью разработать общие модели организации познания. По своему объему глобальные когнитивные модели напоминают сверхтеории таких необихевиористов, как Кларк Халл (см. 1.3.3). Влияние формальной логики, математики и исследований в области искусственного интеллекта видно в том, что большинство глобальных когнитивных моделей, например вопросно-ответная система Т. Винограда или теория решения задач человеком А. Ньюэлла и Г. Саймона, задуманы и построены как машинные программы. Как правило, речь идет при этом о моделях представления знаний и понимания, хотя намерения авторов заключаются в моделировании возможно более широкого круга задач, начиная с поиска в памяти (см. 5.1.1) и кончая дедуктивными умозаключениями (см. ниже 8.2.2).
Теоретически каждая такая модель должна включать четыре компонента. Первый — это так называемый парсер, функция которого состоит в расчленении лингвистической (и в ограниченном объеме невербальной) информации на отдельные порции и их преобразовании к виду, соответствующему внутренней репрезентации знания. Второй компонент — фиксированная в семантической памяти база знаний. Третий компонент — экзекутивные процессы, или процессы управления (см. 5.2.3). Они определяют алгоритмы распознавания, поиска, логического вывода, принятия решений и т.д. Четвертый компонент полностью симметричен первому и обеспечивает переход от внутренней репрезентации знания к моторному программированию и выполнению целесообразных ответов. Фактически до сих пор лишь самая первая программа Терри Винограда (1976) содержала все четыре компонента27. Центр тяжести обычно ложится на описание системы представления знания.
![]() 27 Модель Винограда представляла собой формальную систему, отвечающую на про
27 Модель Винограда представляла собой формальную систему, отвечающую на про
стые вопросы по поводу «мира» нескольких расположенных в ее «поле зрения» цветных
стереометрических фигур. 69
Одной из первых и наиболее влиятельных глобальных моделей стала предложенная в 1976 году Дж.Р. Андерсоном модель под названием ACT (Adaptive Control of Thought — адаптивный контроль мышления). Эта модель продолжает разрабатываться по настоящее время (см. ниже). Архитектура модели отличается от структуры формальных моделей семантической памяти наличием широкого списка операций, которые могут выполняться над репрезентированным в форме логических пропозиций знанием (см. рис. 6.12А). Сами эти операции репрезентированы с помощью систем продукции (см. 2.2.3 и 9.2.1). Система продукций специфицирует условия выполнения и характер исполняемых операций, или «действий». Условиями продукций являются значения лингвистических переменных и их комбинаций. Так как «действия» могут вести к модификации критических условий, это создает условия для
|
70
(ДАВАТЬ, АКТОР, РЕЦИПИЕНТ, ОБЪЕКТ)=
(БЫТЬ ПРИЧИНОЙ (ДЕЙСТВОВАТЬ, АКТОР), (ПОЛУЧАТЬ,
РЕЦИПИЕНТ, ОБЪЕКТ)=
(БЫТЬ ПРИЧИНОЙ (ДЕЙСТВОВАТЬ, МАША), (ИЗМЕНЯТЬ, (ИМЕТЬ
МАША, КНИГА), (ИМЕТЬ, ПЕТЯ, КНИГА)))
Рис. 6.12. Пропозициональная репрезентация предложения «Маша дает Пете книгу»: А. ЖТ Дж.Р. Андерсона; Б. LNR Д. Нормана и Д. Румелхарта (простейший вариант представления); В. Постулат значения в теории У. Кинча.
новых «действий». Всякий когнитивный акт, таким образом, способен привести к изменению хранящегося в памяти знания, причем полностью такие изменения нельзя предсказать даже с позиций создателя модели. В отличие от моделей семантической памяти, ACT не только отвечает на вопросы о заученных ранее предложениях, но и способна на простые умозаключения.
Андерсон показал, что возможности формального аппарата его теории эквивалентны вычислительному потенциалу машины Тьюринга — все, что может быть смоделировано в виде комбинации дискретных символов, описывается также и моделью ACT. Поскольку данная модель фактически является обрамлением формального языка большой мощности, с ее помощью удается описать любой массив данных. В результате оказывается трудно найти подтверждающие или опровергающие ее данные. Например, поиск в памяти осуществляется в ACT параллельно (см. 5.1.1), а линейные зависимости времени реакции моделируются благодаря допущению об ограниченности ресурсов внимания и об активации с их помощью фрагментов семантических сетей, как в модели семантической памяти Коллинса и Лофтус (см. 6.2.1).
В течение нескольких лет усилия Андерсона и его коллег были сконцентрированы на изучении феномена, получившего название эффект веера: чем больше фактов узнает испытуемый по поводу определенного понятия или лица (например, утверждений о личностных качествах некоторого индивида), тем медленней он верифицирует соответствующие частные утверждения. Это можно было бы объяснить тем, что содержимое ограниченного резервуара ресурсов, определяющее скорость переработки информации, распределяется по большему числу ассоциативных связей, ведущих к данному узлу памяти. Позднее Андерсон нашел, однако, что если речь идет об относительно хорошо известных лицах (например братьях Кеннеди), то эффект веера меняет свой знак — проверка новых фактов осуществляется здесь намного быстрее. По-видимому, этот феномен проявляется только при нагрузке на рабочую, но не на семантическую память. Кстати, эффект веера оказывается особенно сильным у пожилых людей, которые испытывают трудности с отбором релевантной порции сведений (метапроцедура КОНТРОЛЬ — см. 5.4.3 и 8.1.3).
Точно так же как в лингвистике, теориям, ориентированным на субъект (подлежащее), противопоставляются концепции, центрированные на предикате (то есть прежде всего на глаголе), в ряде глобальных моделей главным элементом репрезентации оказывается глагол, который задает схему или список возможных семантических ролей для других единиц описания (см. 7.3.2). Пример этого — модель LNR (названная так по первым буквам фамилий авторов Линдсея, Нормана и Румелхар-та). Как видно из рис. 6.12Б, в центре репрезентации оказывается глагольный элемент (в данном случае глагол ДАТЬ). Дальнейшая спецификация значения предложения идет в направлении декомпозиции глагола на примитивные семантические компоненты. В результате получается довольно сложная семантическая сеть. Авторы называют ее активной,
так как в ней нет разделения статичного знания и операций над ним, характерного, например, для ACT Андерсона. Одна и та же структура содержит значения отдельных слов, факты, информацию о задачах, целях и алгоритмах их достижения. Часть сети используется для управления процессами разворачивающейся в ней активации. Реализация LNR состоит из анализирующего предложения естественного языка парсера, семантической сети только что описанного типа и интерпретатора, который состоит из элементов этой сети и управляет преобразованиями информации.
Целью этих авторов было создание вопросно-ответной системы для работы с большими массивами семантической информации. Собственно психологических исследований, связанных с этой теорией, оказалось не много, хотя, как справедливо считает Норман, оценка идеи зависит не от количества экспериментов, а от прояснения фундаментальных проблем. Одно из конкретных предсказаний модели состояло в том, что в онтогенезе более простые глаголы (в смысле набора элементарных семантических компонентов) усваиваются раньше, чем более сложные. Это предположение очевидно подтверждается для таких пар глаголов, как «брать» — «покупать» и «давать» — «продавать».
Модель Уолтера Кинча (Kintsch, 1974) отличается от только что изложенной отсутствием семантических сетей, так как он считает их использование нарушением принципа целостности. Ограничения на значения аргументов ментальных предикатов задаются с помощью правил, построенных по типу постулатов значений Карнапа (см. 6.1.1). Пример соответствующего правила показан на рис. 6.12В. Данная модель применяется для описания запоминания, узнавания и воспроизведения отрывков прозы (обычно итальянские новеллы эпохи Возрождения), а также для осуществления простых индуктивных умозаключений на основе пропозициональной репрезентации знания. Кинчем и голландским лингвистом Ван Дейком были проведены обширные исследования, в ходе которых анализировалось запоминание явно сформулированной и неявной, но выводимой информации. Авторам удалось показать связь запоминания со сложностью пропозициональной репрезентации. В современных вариантах своей модели Кинч проводит разграничение между базой знаний, которая строится эмпирически — с помощью латентного семантического анализа, и процессами управления, опосредованными «долговременной рабочей памятью» (см. 5.2.3 и 6.1.1). В ходе дальнейшего развития (см. 7.4.2) областью применения модели стали также феномены метафорического использования речи (Kintsch, 2000). Эта модель, содержащая минимальное число формальных допущений, оказывается более успешной, чем другие глобальные модели, хотя и ее применение ограничено в основном лингвистическим материалом.
Складывается впечатление, что сегодня эти формальные модели перестали играть ведущую роль в когнитивных исследованиях, уступив первенство содержательному анализу неиропсихологических механизмов познания (см. 8.1.1 и 9.1.1). В настоящее время продолжают разрабатываться главным образом две глобальные когнитивные модели. Одна из них 72 является современной модификацией модели Андерсона ACT, известная
под названием ACT-R. Другая модель была предложена в начале 1990-х годов Аланом Ньюэллом и продолжает развиваться его последователями и учениками. Эта модель (вернее, группа моделей и своего рода философская концепция) называется Soar {англ. взлетать, парить).
Буква «A» в названии модели ACT-R Дж.Р. Андерсона подчеркивает, что речь идет о модели адаптивного контроля рационального мышления28. По мнению Андерсона, базовым механизмом мышления служат умозаключения по аналогии. Когда мы сталкиваемся с новой проблемной ситуацией, мы часто пытаемся найти какой-нибудь пример аналогичной задачи с известным решением. Этот процесс представляет собой нахождение сходства между элементами и их отношениями в разных областях знаний. Такое решение будет не всегда идеальным, однако оно может быть полезным первым приближением. Иначе говоря, умозаключение по аналогии является разновидностью эвристических способов решения задач. Модель Андерсона успешно справляется с нахождением аналогий между простыми примерами из арифметики, алгебры и языков программирования. Она, например, позволяет найти форму записи сложения двух чисел в языке LISP (язык программирования, используемый в работах по искусственному интеллекту) по известной форме записи умножения.
Архитектура модели (в одной из последних версий — ACT-R5) показана на рис. 6.13. Она состоит из трех основных видов памяти: декларативной, процедурной и рабочей. Рабочая память содержит репрезентацию актуальной цели и понимается как активированное подмножество структур декларативной памяти. Процедурная память хранит системы продукций, имеющих вид правил «условие —» действие». Когда в рабочую память из внешнего мира или из декларативной памяти попадает информация, репрезентация которой совпадает с левой частью одной из хранящейся в процедурной памяти продукций, то это автоматически ведет к выполнению «действия», записанного в правой части продукции. Декларативная память содержит знание о фактах, причем в данной модели всякое знание первоначально имеет декларативную форму. Организация знания в декларативной памяти связана с его расчленением на «куски» (chunks) размером примерно три элемента, типа IBM. В процессе функционирования модели происходит компиляция знания — подобно тому как в информатике программа, написанная на одном из языков «высокого уровня», переводится в машинный код («компилируется»), чтобы компьютер мог выполнить эту программу. В результате декларативное
![]() 28 В своих работах Андерсон исходит из логико-нормативного («экономического»)
28 В своих работах Андерсон исходит из логико-нормативного («экономического»)
представления о рациональности. Мышление человека рационально, поскольку главной
решаемой когнитивными механизмами задачей является обеспечение максимального
выигрыша при минимальных затратах. В этом отношении он даже более радикален, чем
создатели первых компьютерных моделей мышления, Г. Саймон и А. Ньюэлл, которые
ввели представление об ограниченной (bounded) рациональности человека (см. 8.4.2). 73
|
74
Действие N. / Восприятие
ВНЕШНИЙ МИР Рис. 6.13. Архитектура модели ACT-R5 Дж.Р. Андерсона (2005).
Для оптимизации работы модели прочность продукций и связи декларативной и процедурной памяти подвержены влиянию так называемого байесовского механизма, позволяющего определять вероятность будущего возникновения некоторых событий (то есть в данном случае появления определенной комбинации символов на входе модели) на основании вероятности их возникновения в прошлом. Экспериментальный материал, который будет рассмотрен в одной из следующих глав, свидетельствует, однако, что большинство людей испытывают значительные трудности с пониманием и использованием именно этой формулы расчета вероятностей (см. 8.2.1). Модель Андерсона с ее зависимостью от поиска готовых решений в памяти системы, конечно, трудно считать полноценной моделью мышления. Полностью «декларативными остаются пока представления о целенаправленности работы системы.
Основная альтернатива этой модели — модель Soar, разработанная Аланом Ньюэллом и его коллегами Дж. Лэйрдом и П. Розенблумом (например, Newell, 1990; Laird & Rosenbloom, 1996). Прежде всего она имеет совершенно другую архитектуру. В ней, в частности, отсутствует
разделение декларативной и процедурной памяти. Причиной является использованная авторами возможность записи декларативного знания (пропозиций) в форме систем продукции. К числу достоинств этой модели относятся выделение целой иерархии подцелей по мере возникновения затруднений, а также работа с более или менее полным «деревом», или пространством, потенциальных подзадач в рамках проблемной ситуации. Кроме того, модель допускает возможность использования эвристик — неформальных процедур, сокращающих число шагов при поиске решения.
Основной эвристикой, выделенной еще в совместных исследованиях Ньюэлла и Герберта Саймона, стал «анализ средств и целей» (means-ends analysis). Он включает следующие этапы: 1) регистрация рассогласования между актуальным состоянием решения задачи и требуемым состоянием; 2) формирование подцели, достижение которой может уменьшить отмеченное рассогласование; 3) выбор средств, применение которых позволит достичь эту подцель. Очевидно, что на последнем этапе может возникнуть необходимость выделения еще более частных подцелей. Репрезентация задачи, таким образом, разворачивается в целое проблемное пространство разноуровневых целей и средств (см. 8.3.2). Эти особенности делают Soar в большей степени похожей на описание собственно процесса мышления. Она особенно полезна в таких областях, как когнитивная эргономика, где важно определять число «ходов» (нажатий на клавиатуру и движений компьютерной мышкой), необходимых для достижения требуемой цели — при наличии альтернативных вариантов организации компьютерного интерфейса или программного обеспечения. Вместе с тем, в случае более сложных, недискретных задач Soar чрезвычайно сомнительна именно как формальная модель процессов решения. В этом общем случае она оставляет впечатление лишь псевдоформального языка для описания того, что и так известно из более традиционных психологических исследований (см. 8.3.1).
В начале данного подраздела мы отмечали, что главным мотивом для введения пропозиционального описания знания было желание свести множество поверхностно различных высказываний к более простому набору базовых семантических элементов. Однако приходится признать, что стремление к упрощению и гомогенизации обернулись в этой области усложнением терминологии и размножением формальных моделей, экспериментальная проверка которых оказалась практически невозможной (см. 9.1.2). Хотя результаты эмпирических исследований и накладывают ограничения на глобальные модели, формальная подготовка и интуиция автора имеют несоизмеримо большее значение. В частности, критические замечания вызывает в последние годы использование для моделирования познавательных процессов систем продукций. Они критикуются за отсутствие гибкости и сугубо описательный характер, позволяющий — post factum — аппроксимировать любые данные, но не предсказывать их.
В качестве альтернативы глобальным когнитивным моделям Лоуренс Барсалу предложил новую концепцию представления и функционирования знания, названную им теорией перцептивных символьных систем (Barsalou, 1999). Как отмечает этот автор, в течение нескольких столетий познание трактовалось, главным образом, в качестве продолжения чувственного восприятия (см. 1.1.2). Только 20-й век принес с собой идею жесткого отделения познания от восприятия и, как следствие этой идеи, символьный подход, который в различных своих вариантах подчеркивает роль амодальных абстрактных репрезентаций, построенных по образцу логического исчисления (см. 2.2.3). Такой традиционный символьный подход, возникший в контексте компьютерной метафоры, однако, с трудом, лишь при введении дополнительных допущений согласуется с многочисленными данными о роли образного, зрительно-пространственного кодирования информации в познавательных процессах. Далее, традиционному символьному подходу не удается найти какое-либо естественное обоснование в более нейрофизиологически ориентированных моделях последнего десятилетия (см. 9.1.1 и 9.1.3).
Барсалу считает поэтому необходимым вновь поставить вопрос о том, не способны ли репрезентации, возникающие на основе сенсорно-перцептивной информации, обеспечить функционирование всей совокупности наших знаний, или концептуальной структуры. Конечно, если рассматривать перцептивное знание лишь в контексте сознательно доступных феноменов — субъективных образов, то на поставленный Барсалу вопрос следует сразу же дать отрицательный ответ. В самом деле, субъективные образы явно не подходят для столь общей роли, так как они, во-первых, очень индивидуальны (см. 9.1.2), во-вторых, не всегда успешно коррелируют с приписываемыми им эффектами памяти (см. 5.3.1) и, в-третьих, обычно более конкретны, чем это можно было бы ожидать от феноменов, лежащих в основе концептуального знания. Так, наше понятие ТРЕУГОЛЬНИК абстрактно, тогда как любой субъективный образ треугольника, пусть даже самый смутный и неопределенный, обладает конкретными признаками, например некоторой ориентацией в пространстве.
По мнению Барсалу, существует несколько основных критериев полноценности функционирования концептуальной структуры:
76
4) возможность соотнесения классов и конкретных примеров в целях
построения логических суждений (пропозиций).
Идею перцептивной основы знания можно возродить, если отказаться от опоры на интроспективные данные как начальный пункт анализа и обратиться к бессознательным нейрофизиологическим процессам сенсомоторной и сенсорно-перцептивной обработки. Центральный факт здесь состоит в том, что при обработке в нейронных сетях происходит расщепление информации об объекте на отдельные признаки. Эта особенность регистрации сенсорных воздействий уже содержит элемент абстракции. В частности, понятие ТИГР отличается от зрительного образа тигра (воспринимаемого или только воображаемого) тем, что признак ПОЛОСАТОСТЬ остается недоспецифицированным — конкретное число полос на шкуре не играет роли и остается абстрактной переменной. Эти же особенности характеризуют и сенсорное кодирование признака пространственной частоты (см. 3.1.1). Соответствующие нейроны-детекторы кодируют лишь ориентацию и примерную плотность полос, оставляя вопрос об их точном количестве открытым. Точно так же можно подойти к рассмотрению свойств понятия ТРЕУГОЛЬНИК. Комбинация информации от трех нейронов-детекторов, настроенных на выделение углов без учета их конкретных размеров и ориентации, могла бы в принципе иметь требуемый абстрактный характер.
Легко видеть, что требуемая в случае абстрактных понятий комбинация признаков есть некоторое подмножество огромного числа состояний процессов интермодальной обработки. Механизмом выбора требуемого подмножества состояний, согласно Барсалу, является внимание. Многочисленные данные, рассмотренные в одной из предыдущих глав, свидетельствуют о том, что эффекты избирательного внимания наблюдаются уже на самых ранних этапах кортикальной обработки, вплоть до первичной зрительной коры VI (см. 4.1.2). Как необходимое опосредующее звено формирования понятий внимание выделяет определенное сочетание интермодальных сенсорных состояний и способствует их фиксации в долговременной памяти. Последнее доказывается тем обстоятельством, что при отвлечении внимания всякое эксплицитное запоминание практически исчезает, точно так же как нарушается или, по крайней мере, значительно ослабевает и имплицитное научение (см. 6.1.2).
Выделенные вниманием и зафиксированные в памяти сочетания состояний сенсорных механизмов Барсалу называет перцептивными символами. Сами по себе, взятые в изоляции, перцептивные символы еще не достаточны для выполнения функций концептуальных структур, так как понятийное знание связано не просто с регистрацией, а с интерпретацией сенсорных данных. Подобная интерпретация становится возможной по мере накопления некоторого множества похожих перцептивных символов. Как происходит такое расширение удерживаемой в долговременной памяти базы знаний, пока не вполне понятно,
77
но можно представить существование чего-то вроде перцептивно-семантических фреймов, которые, с одной стороны, «фиксируют» все данные на определенную тему, а с другой, позволяют воссоздавать интермодальные состояния активации сенсорных и сенсомоторных механизмов в отсутствие реальных объектов. Эта активация в режиме «сверху вниз» {top down) ранее обсуждалась в работах Найссера как необходимое звено активного восприятия (см. теорию перцептивного цикла в 3.3.4) и основа процессов представливания (см. 6.3.1). Барсалу пытается пойти дальше, рассматривая в этом контексте любые когнитивные процессы, такие как категоризация, умозаключение, понимание и даже творческое воображение.
Фреймом в данной теории называется система перцептивных символов, которая служит для накопления знаний и для моделирования — симуляции — примеров соответствующей семантической категории и ее практического использования29. Фреймы, по мнению Барсалу, характеризуются теми же основными свойствами, что и пропозиции. Они имеют, во-первых, предикатно-аргументное строение. Так, фрейм автомобиля может иметь ряд аргументов, соответствующих таким частям, как колеса или двери. Далее, на значения этих аргументов накладываются определенные ограничения: число колес обычно равно четырем, а количество дверей варьирует от 2 до 5. Подобные ограничения выполняют роль, аналогичную роли постулатов значения Карнапа в логико-семантических теориях (см. 6.1.1). Наконец, фиксируемая в данном формате символьная информация может включаться в другие фреймы и рекурсивно расширяться за счет построения вложенных фреймов, таких как фрейм автомобильных колес со своим набором аргументов. Отсюда вытекает продуктивность (генеративность) подобной формы репрезентации знания и возможность не только экстенсионального (через указание предметных и сенсомоторных референтов), но и интенсионального определения понятий, а именно через порождение новых фреймов и включение одних фреймов (как некоторых новых аргументов) в контекст других.
Если накопленные таким образом данные позволяют частично восстанавливать активацию нейронных систем, которая сопровождала возникновение перцептивных символов, то становится возможной симуляция объектов, действий, событий и даже интроспективных состояний (см. ниже) в их отсутствие. Работа с внутренней, ментальной моделью ситуации — важнейшее допущение когнитивного подхода в целом (см. 2.2.1). Поскольку, с точки зрения Барсалу, эта модель имеет в своей основе перцептивный характер, она легко включается в непосредственное восприятие, во всяком случае при отсутствии ее конфликтов с физической
![]() 29 Таким образом, понятие «фрейм» используется Барсалу в широком и более обще
29 Таким образом, понятие «фрейм» используется Барсалу в широком и более обще
принятом в когнитивной психологии значении термина «схема», которое включает как
пространственные, так и временные формы организации долговременных компонентов
наших знаний (см. 6.3.1). Совершенно такое же, широкое понимание этого теоретичес
кого понятия характерно и для работ в области когнитивной лингвистики (прежде всего
78 для теории фреймовой семантики Ч. Филлмора — см. 7.3.2).
ситуацией30. Такое объединение абстрактной информации о типах (types) объектов и событий с конкретными примерами (token) и есть акт категоризации. Категоризация непосредственно переходит при этом в процессы вывода, обеспечивающие выход понимания за пределы непосредственно данного. Так, увидев самолет, появившийся над аэродромом, мы воспринимаем его в контексте нашего концептуального знания об этой категории объектов. Это означает, что мы перцептивно моделируем и те признаки, которые в принципе не могут быть увидены — пилотов в кабине, пассажиров, их багаж, топливо в баках и выпускаемое для посадки шасси. В то же самое время восприятие этого самолета обогащает перцептивное понятие (фрейм) САМОЛЕТ, скажем, за счет включения в него информации о фирменной раскраске или необычном хвостовом оперении.
Насколько абстрактными в действительности могут быть системы перцептивных символов? Чтобы доказать возможность перцептивной репрезентации любых, даже самых общих понятий, Барсалу указывает на существование целого ряда дополнительных механизмов. К ним, наряду с упоминавшимися механизмами селективного внимания и фреймового структурирования знаний, относятся метафорический перенос, а также репрезентация собственных внутренних состояний, включающих аффективные состояния и эмоции.
При так называемом метафорическом переносе абстрактные понятия репрезентируются с помощью перцептивных символов из других, концептуально более освоенных семантических областей. В самом деле, каждый из нас может легко привести примеры образов, символизирующих такие абстрактные понятия, как ЧЕСТЬ, ПОКОЙ или ГНЕВ. Метафорический перенос и близкие к нему умозаключения по аналогии относятся к фундаментальным операциям (метапроцедурам) нашего мышления и будут подробно рассмотрены в последующих главах (см. 7.4.2 и 8.1.3). Еще одним механизмом, которому Барсалу склонен придавать даже большее значение, является включение в число комбинаторно используемых перцептивных символов нейрофизиологических коррелятов проприоцепции и воспринимаемых интроспективно состояний. В самом деле, приведенные только что примеры абстрактных понятий естественно ассоциируются с некоторыми идеомоторно проигрываемыми действиями (либо отсутствием таковых — ср. ПОКОЙ) и рефлекси-руемыми аспектами эмоций. В этом отношении точка зрения Барсалу совпадает с мнением представителей когнитивной лингвистики (см. 7.3.2), считающих, что телесные ощущения и эмоции представляют собой естественный источник метафор и аналогий для других, более абстрактных концептуальных областей (например, Lakoff & Johnson, 1999).
![]() 30 В случае конфликтов восприятия ситуации и знания о ней восприятие побеждает,
30 В случае конфликтов восприятия ситуации и знания о ней восприятие побеждает,
по крайней мере, когда субъект находится в нормальном психическом состоянии и/или
сенсорная основа восприятия не ослаблена какими-то внешними факторами. Как спра
ведливо отмечает Барсалу, не следует преувеличивать масштабы концептуальных влия-
нийна наше непосредственное восприятие. Так, если мы начинаем воспринимать пред
ложение «Ковбой вскочил в...» и ожидаем услышать в конце что-то вроде «седло», а на
самом деле произносится «...джакузи», то именно это окончание мы и слышим — вопре
ки всему накопленному нами ранее знанию о ковбоях и их типичном поведении (см. 3.3.1). 79
Перед тем как подвести итоги, рассмотрим подход Барсалу к введению в перцептивную систему знания функции отрицания («Неверно, что...»). Это вопрос принципиально важен, так как отрицание есть абстрактная операция, составляющая основу любого логического исчисления (см. 5.3.1 и 8.2.3). Согласно теории перцептивных символьных систем, истинность некоторого представления (то есть модели ситуации) есть успешность его соотнесения с действительностью. Невозможность такого соотнесения означает ошибочность ментальной модели, точно так же как и описывающей ее пропозиции. Так, если мы активируем понятия-фреймы НАД, САМОЛЕТ и ОБЛАКО, то ментальная модель будет репрезентировать самолет, пролетающий над облаком. Предположим, однако, что при этом нами воспринимается облако без какого-либо летательного аппарата над ним. Подобное несовпадение восприятия и ментальной модели означает ошибочность симуляции и эквивалентно выражению «Неверно, что над облаком находится самолет». Следовательно, чтобы начать осуществлять отрицание перцептивных символов, нужно научиться моделировать ситуации, которые в определенном — а именно отрицаемом — отношении отличаются от воспринимаемой действительности. Формирующийся в процессе такой контрфактической активности «фрейм отрицания» может в дальнейшем использоваться, как и любой фрейм, продуктивным образом, то есть в комбинации с другими понятиями-фреймами, например для выражения содержания «Верно, что над облаком нет самолета» (см. 8.1.3).
Предпринятая Барсалу попытка обоснования сенсуалистской трактовки познавательных процессов (см. 1.1.2 и 1.2.1) представляет значительный интерес и не сводится, как считают некоторые критики, к «изобретению сломанного колеса». Он не только включил в свои соображения современные данные о нейрофизиологических механизмах восприятия, внимания и воображения, но и продемонстрировал возможность описания концептуальных структур как преимущественно невербальных репрезентаций. Вместе с тем, эта теория не дает ответа на ряд существенных вопросов. Один из них — вопрос о направленности внимания, играющей столь важную роль в селекции перцептивных символов. Откуда мы знаем, оставаясь в рамках системы перцептивных символов, на что обращать внимание? Конечно, существуют объективные признаки предметности, такие как трехмерная телесность (см. 3.3.3), но они слишком неспецифичны для формирования системы понятий. Точно так же проблематичными оказываются процессы эндогенной селекции и контроля, которые составляют основу симуляции сенсорных и сенсомоторных состояний.
Произвольность внимания зависит от мотивации, а также от использования речи (самоинструкции) для постановки или смены целей наших действий (см. 4.4.2). Барсалу признает, что словесное обозначение делает возможной произвольную активацию нейрофизиологических механизмов. Но с этим признанием мы возвращаемся на позиции 80 двойственной детерминации концептуальных структур — собственно
сенсомоторного опыта и системы культурно-исторических значений, фиксированных в языке. В самом деле, лишь часть наших знаний имеет эмпирических характер31. Например, как показывают результаты латентного семантического анализа, упоминавшегося нами в начале данной главы (см. 6.1.1), существенная концептуальная информация содержится уже в простых статистических данных о вероятностях определенных словосочетаний. В контексте реального социального взаимодействия происходит усиление и артикуляция процессов передачи опыта, в частности, за счет неоднократно упоминавшегося механизма совместного внимания (Tomasello, 1999b)32.
Еще одно замечание состоит в необходимости учета уровневой гетерогенности когнитивных процессов. Если восприятие, семантическая категоризация и память (включая репродуктивное представливание предметов) ориентированы на ситуацию, то для планирования действий, решения задач и творческого воображения скорее характерны отстройка от ситуации и работа с метальными моделями возможных (и, что существенно, невозможных — см. 8.3.2) ситуаций. Это различение позволяет говорить о двух уровнях высших символических координации — уровне концептуальных структур ? и уровне метакогнитивных координации F (см. 5.3.2 и 8.1.3). Метакогнитивные процессы опосредованы работой эволюционно новых, префронтальных областей коры. Но и концептуальная обработка в значительной степени вынесена за пределы модально-специфических областей мозга. Нейрофизиологические данные свидетельствуют о том, что обработка абстрактной семантической информации связана в основном с височными и (левыми) фронтальными долями. Выявление роли сенсомоторных координации только оттеняет значение механизмов межличностной кооперации и речевого общения, которые мы рассмотрим в следующей главе.
![]() 31 Так, уже морфология слова часто поддерживает семантическую категоризацию. Как
31 Так, уже морфология слова часто поддерживает семантическую категоризацию. Как
отмечал Лурия, слово «чернильница» сразу позволяет сделать вывод, что речь идет об
объекте искусственного происхождения — артефакте (суффикс «ниц»!), тогда как кор
невая морфема наводит на мысль о черном цвете и чернилах. Подобная поддержка про
цессов понимания особенно важна при категоризации менее известных объектов, таких
как «фритюрница». Некоторые языки, например турецкий, имеют еще более развитую
систему морфологических элементов, позволяющих передавать одним словом не только
информацию о семантике понятия, но также и об отношении говорящего к передавае
мой информации (Jackendoff, 2002).
32 Примером роли социальной поддержки в формировании концептуальных структур
являются высокие учебные достижения группы слепоглухонемых студентов, обучавшихся
в 1970-х годах на факультете психологии Московского государственного университета.
Для ответов этих студентов на экзаменах был характерен фундаментальный философский
анализ понятий при освещении практически любой, даже очень частной темы. Если ос
новой абстрактных категорий, как считает Барсалу, служит сенсорный опыт, то этот фе
номен был бы совершенно непонятен. 81
6.4.3 Наивная физика и психология обыденного сознания
Изучение обыденного сознания и его практического выражения — здравого смысла — представляют собой одну из увлекательных, хотя и не всегда бесспорных глав когнитивных исследований. В течение длительного времени в этой области доминировал историко-литературоведческий и лингвистический анализ. Так, популярной темой многих исторических работ является обсуждение особенностей массового сознания на различных этапах развития космогенических представлений, в частности, их изменение при переходе от Средневековья к Возрождению и несколько позднее, в 16-м — первой половине 17-го века, когда, по'замечанию Рассела, «Васко да Гама и Колумб раздвинули границы мира, а Коперник — неба» (см. рис. 6.14). В начале 20-го века задача изучения претеоретических, или «наивных», представлений была поставлена феноменологией и близкой к этому направлению философии гештальт-психологией. «Подобно другим наукам, — писал Вольфганг Кёлер в одной из своих главных работ, — психология может иметь только одну исходную точку: мир — такой, каким мы его наивно и некритически воспринимаем» (КоеЫег, 1947, р. 1—2).
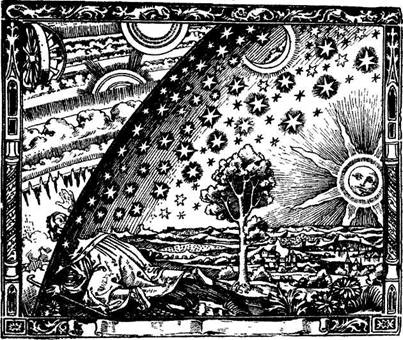 |
Рис. 6.14. Известная французская гравюра, иллюстрирующая изменение мироощуще- |
Образцом для самых ранних психологических работ в этой области послужили эксперименты Кёлера (КоеЫег, 1924) по исследованию
интеллекта человекообразных обезьян, проводившиеся им во время интернирования на острове Тенерифе (см. 1.3.1). Термин «наивная физика» был впервые использован берлинскими психологами Отто Липманном и Гельмутом Богеном (Lipmann & Bogen, 1923), проанализировавшими, каким образом школьники решают простые механические задачи, типа задач на использование рычагов, на занятиях в классе и на практике. Оказалось, что вместо теоретического знания в основе представлений школьников о механике часто лежит непосредственное зрительное впечатление. В современной литературе в связи с этим обычно говорят о роли наглядных, квазипространственных ментальных моделей (см. 8.2.2).
Системы представлений, образующие основу наших практических знаний о механических взаимодействиях, до сих пор обнаруживают большее сходство с аристотелевской, чем с галилеевской физикой. Например, важной прикладной задачей, интересовавшей работодателя Галилея герцога Тосканского, было определение траектории полета артиллерийского ядра. Согласно господствовавшим тогда представлениям, снаряд, выпущенный горизонтально, будет некоторое время, замедляясь, лететь горизонтально, а затем просто упадет вниз. Галилей показал, что, если отвлечься от сопротивления воздуха, движение может быть описано как векторная сумма двух независимых движений: горизонтального движения с постоянной скоростью (закон инерции) и вертикального движения со скоростью, возрастающей пропорционально времени, которое прошло с момента выстрела (закон свободного падения). Иными словами, снаряд будет двигаться по параболе.
Казалось бы, в наши дни это должна быть общепризнанная точка зрения. Тем не менее исследования, проведенные с похожей задачей определения траектории движения ядра, падающего с летящего в одном и том же направлении с постоянной скоростью и на постоянной высоте самолета, выявили значительный разброс в ответах испытуемых (McCloskey, 1983)33. На рис. 6.15 показаны четыре варианта предлагавшихся на выбор ответов. В условиях задачи испытуемым в явном виде предлагалось игнорировать сопротивление воздуха и присутствие ветра. Правильным является вариант (А), согласно которому ядро падает по параболической траектории и в момент соприкосновения с землей самолет находится прямо над ним. Однако лишь около 40% испытуемых остановилось на этом варианте, причем очень немногие из них отмечали существенность места падения в связи с положением самолета. Большинство предпочитали другие ответы, например такой, который скорее напоминает не движение тяжелого металлического тела, а движение парашюта, зависающего под пролетающим самолетом и опускающегося, при отсутствии ветра, в месте, над которым самолет уже давно пролетел (ср. рис. 6.15Г). В своих объяснениях испытуемые обнаружили особые
![]() 33 В нашем непосредственном восприятии, как было показано выше (см. 3.1.2), не
33 В нашем непосредственном восприятии, как было показано выше (см. 3.1.2), не
выполняются и некоторые другие фундаментальные принципы галилеевско-ньютонов-
ской физики, такие как равнозначность выбора системы отсчета и векторное сложение
скоростей (правило параллелограмма). 83
|
84
Рис. 6.15. Четыре ответа, предъявлявшиеся на выбор в задаче определения траектории падения объекта с летящего самолета (по: McCloskey, 1983).
проблемы с пониманием закона инерции. Для них была типична вера в необходимость постоянно возобновляемых толчков, без которых энергетический импульс (то есть, по сути дела, аристотелевский «импетус»), сообщенный объекту, будет гаснуть и движение прекратится.
Конечно, и эту, отчасти «догалилеевскую», точку зрения нельзя считать иррациональной, так как испытуемые, по-видимому, просто не могли отстроиться от своего повседневного опыта, свидетельствующего о присутствии оказывающей сопротивление движению среды. В другом недавнем исследовании наивной физики (Hecht & Proffitt, 1995) испытуемым предлагалось выбрать правильное изображение жидкости в сосуде, напоминавшем по виду пивную кружку: в разных изображениях независимо варьировался наклон сосудов и наклон поверхности жидкости. Понятно, что поверхность жидкости должна быть параллельна поверхности Земли, причем независимо от наклона сосуда. Однако испытуемые чаще выбирали изображения, на которых жидкость была несколько наклонена в направлении наклона сосуда. Эта ошибочная оценка увеличивалась в случае привлечения экспертов — мюнхенских барменов, работающих на знаменитой пивной ярмарке «Октоберфест». Объяснение опять же нужно искать в зрительном опыте — при быстром переносе наполненных кружек поднос должен быть наклонен в направ-
лении вектора ускоренного движения. Это необходимо для компенсации отклонения суммарного вектора влияющих на жидкость сил от гравитационной вертикали, иначе кружка может упасть, а пиво выплеснуться. Если перцептивный опыт столь существен, то не удивительны проблемы, связанные с пониманием потерявшей наглядную очевидность «постклассической» физики 20-го века (см. 8.3.2). Естественно задать вопрос, почему была утрачена очевидность? Скорее всего потому, что наше восприятие изначально направлено на спецификацию подвижных предметов в объемном пространственном «каркасе» (см. 3.4.2). Понятие времени возникает позднее и на совершенно другом уровне, в контексте припоминания личностно значимых событий (см. 5.3.2 и 8.1.1), причем для описания свойств времени мы опираемся на концептуальные метафоры из более известной области пространственных отношений (см. 7.4.2). Современная физика оперирует понятиями, парадоксальными с точки зрения формирующейся таким образом наивной модели мира. Так, физика макромира (специальная и общая теория относительности) использует понятие единого пространства-времени и, подчеркивая относительность выбора систем отсчета, одновременно ограничивает возможную скорость движения некоторой константой — скоростью света. Не менее парадоксальным образом для обыденного сознания физика микромира (квантовая механика) объединяет свойства предметов и среды — понятие волны/частицы — и дает вероятностную (а не детерминистскую) трактовку свойств элементарных частиц в форме соотношения неопределенностей их параметров34.
Все это подтверждает мнение Гибсона (см. 9.3.1) об ограниченной применимости современных физических моделей в психологии: «Под влиянием успехов атомной физики некоторые мыслители пришли к выводу, что наше земное окружение, состоящее из поверхностей, предметов, мест и событий, является фикцией... Однако перенос закономерностей микромира на восприятие реальности полностью ошибочен. Мир можно анализировать на разных уровнях, от субатомного до земного и космического. На одном полюсе существуют физические структуры порядка миллимикронов, на другом — световых лет. Но для живых существ несомненно более важным и адекватным является промежуточный сегмент, в масштабе от миллиметров до километров. Он более адекватен уже потому, что в этом случае мир и животные оказываются сопоставимы друг с другом» (Gibson, 1966, р. 211).
![]() 34 Содержания массового, профессионального и индивидуального сознания, разуме
34 Содержания массового, профессионального и индивидуального сознания, разуме
ется, могут значительно отличаться в этом отношении. Так, психологам-эксперимента
торам идея соотношения неопределенностей более близка, чем представителям других
гуманитарных дисциплин, поскольку в психофизике, как и в физике микромира, всякая
процедура измерения существенно взаимодействует с измеряемым объектом. Одновре
менное определение двух и более параметров восприятия или, скажем, памяти (как и эле
ментарной частицы) с одинаково высокой точностью часто оказывается невозможным.
Эту близость научной психологии и квантовой механики неоднократно отмечал созда
тель последней Нильс Бор. 85
Еще одним важным источником данных об особенностях обыденного сознания стали работы культурных антропологов, прежде всего Клода Леви-Стросса, и исследователей развития психики ребенка — начиная с Пиаже и кончая такими современными авторами, как Томас Бауэр (см. 3.4.3), Норберт Бишоф (см. 6.3.3), Элизабет Спелке (см. 5.4.1) и Йозеф Пернер (см. 8.1.1). В частности, категории наивной психологии (или, как ее предпочитают называть в философской и антропологической литературе, folk psychology) обнаружили чрезвычайное разнообразие имплицитных и более явных, эксплицитных форм, демонстрирующих развитие в течение всей жизни человека. В последующих главах мы подробно остановимся на одном из важнейших этапов этого развития, связанных с осознанием различий собственных знаний и знаний других людей. Здесь мы рассмотрим лишь отдельные примеры категорий наивной психологи в их связи с языковыми значениями.
Выдающуюся роль в выявлении категорий наивной психологии играет изучение лексической семантики, опирающееся на интуицию носителей соответствующих языков. Так, кросскультурный анализ выявляет во многих языках и культурах мира своеобразную оценочную асимметрию концептуального пространства, связанную с эгоцентрическими координатами тела (интересно, что такая асимметрия отсутствует в «когнитивных картах», то есть репрезентациях собственно пространственного окружения — см. 6.3.2). В табл. 6.1, составленной по данным американского антрополога Джека Гуди (Goody, 1977), приведены типичные компоненты лексем, ассоциируемых с понятиями «левое» и «правое» в культуре племени Ниоро (Восточная Африка).
Аналогии можно легко найти и в европейских языках, в частности, в русском словоупотреблении: «левые заработки», но «правое дело». Заметим, что в советский период истории России одновременно (и в соответствии с давно забытым прецедентом — расположением партий в зале заседаний французского революционного конвента в конце 18-го века) в политическом отношении левое предпочиталось правому, так что сторонники зарубежных левых партий и движений почти автоматически зачислялись в потенциальные союзники, а от представителей правых
Таблица 6.1. Левое и правое в символической классификации Ниоро (по: Goody, 1977)
86
Левое |
Правое |
презираемое |
уважаемое |
угроза |
безопасность |
земля |
небо |
грязь |
чистота |
беспорядок |
порядок |
женщина |
мужчина |
смерть |
жизнь |
политических взглядов принято было ожидать любых неприятностей. Рассматривая аналогичные этнографические примеры в традиционных культурах Африки, Гуди отмечает, что релевантные отношения всегда выбираются на контекстуальной основе, поэтому ни в одной из культур семантические таблицы эквивалентности/противопоставления (подобные вышеприведенной табл. 6.1) не следует трактовать как универсальные, применимые при всех обстоятельствах35.
Анализ лексической семантики демонстрирует фактическое существование в каждом языке довольно детальной имплицитной модели человека. На материале русской лексики соответствующую реконструкцию провел Ю.Д. Апресян (1995, с. 348—388). Такой, скорее феноменологический анализ выявляет ряд интересных особенностей наивной психологии. Прежде всего, наивная психология (по крайней мере, в ее нормативном русскоязычном варианте), по-видимому, оказывается вариантом когнитивной психологии. Согласно этому анализу, на самом верху пирамиды определяющих поведение человека ментальных конструктов оказываются «ум», «сознание» и «понимание». Непосредственная реализация целей действий определяется механизмом воли, а основным сдерживающим волю фактором является совесть16. При относительной пассивности и готовности к компромиссам (совесть «можно потерять» и с ней «можно договориться») последняя, как подчеркивает Апресян, иногда обнаруживает удивительную способность «пробуждаться» в, казалось бы, безнадежных случаях.
Методологически эти исследования опираются, главным образом, на интуицию, но используют также и функциональную интерпретацию разнообразия лексики, удачных метафор и устойчивых фразеологических оборотов — если имеется два или более похожих слова (оборота), то это «зачем-то нужно», между ними должно быть имеющее некоторый смысл различие. Проиллюстрируем это на примере слов, обозначающих эмоциональные состояния. Анализ этой части лексикона выявляет
![]() 35 Классическая проблема, имеющая значение для маркетинга в различных регионах мира и поэтому интересующая сегодня транснациональные корпорации, состоит в межкультурных различиях семантических ассоциаций на цвета. Хотя такие различия хорошо известны, коннотативные оценки ассоциативных ответов на цвета, в целом, определяются не столько особенностями конкретной культурной среды, сколько, во-первых, универсальной температурно-цветовой метафорой в обозначении эмоций (светлые-теплые-положительные versus темные-холодные-отрицательные цвета и, соответственно, ассоциации) и, во-вторых, актуальным контекстом. Так, черный цвет может использоваться как символ бедствий и злых сил, но одновременно и как символ плодородия (плодородной земли).
35 Классическая проблема, имеющая значение для маркетинга в различных регионах мира и поэтому интересующая сегодня транснациональные корпорации, состоит в межкультурных различиях семантических ассоциаций на цвета. Хотя такие различия хорошо известны, коннотативные оценки ассоциативных ответов на цвета, в целом, определяются не столько особенностями конкретной культурной среды, сколько, во-первых, универсальной температурно-цветовой метафорой в обозначении эмоций (светлые-теплые-положительные versus темные-холодные-отрицательные цвета и, соответственно, ассоциации) и, во-вторых, актуальным контекстом. Так, черный цвет может использоваться как символ бедствий и злых сил, но одновременно и как символ плодородия (плодородной земли).
56 Исследователь мотивации Хайнц Хекхаузен заметил однажды, что научная психо
логия сначала потеряла душу, а затем — сознание и рассудок. То же произошло и с обы
денным понятием «воля», для научной реабилитации которого особенно много было сде
лано как раз Хекхаузеном и его школой (Хекхаузен, 2003). Насколько нам известно, ис
следования совести до сих пор остались на феноменологической стадии. В обыденном
сознании эти понятия, напротив, играют центральную роль. 87
роль внутреннего контроля поведения и субъективных состояний (см. 4.3.1 и 9.4.3). Так, рассмотрение соответствующей лексики показывает, что практически каждая выделяемая в психологии базовая эмоция представлена в языке, как минимум, двумя терминами, различия между которыми можно трактовать с точки зрения присутствия или потери произвольного контроля. Контроль теряется при увеличении интенсивности эмоций, когда радость переходит в экстаз, гнев в ярость, а страх в панику. На основании лексико-семантического анализа В.Ю. Апресян и Ю.Д. Апресян (Апресян, 1995, с. 453—465) также отмечают избирательность связи негативных эмоций с сенсорными ощущениями: страх обычно ассоциируется с холодом («Все похолодело внутри»), гнев — с теплом, а отвращение — с соответствующими вкусовыми и обонятельными впечатлениями. Эти различия остались незамеченными в психологических работах, со времен Вундта трактующих эмоциональную оценку как одномерную шкалу (см. 2.2.1).
В современной когнитивной лингвистике анализ системы метафор и фразеологических оборотов, задающих семантические поля ключевых понятий наивной модели мира, становится чрезвычайно популярным методическим подходом (например, Koevesces, 2005; Lakoff, 2005). Описываемые таким образом феномены, однако, требуют дальнейшей междисциплинарной проверки, без которой этот подход чреват опасностью сверхгенерализации частных примеров и проекции собственных теоретических представлений на многозначный лексический материал. Так, спорным представляется тезис об эгоцентричности языка наивной модели, иллюстрируемый парами дейктических (указательных) слов (Я-ТЫ, ЗДЕСЬ-ТАМ, СЕЙЧАС-ТОГДА, ЭТО-ТО) и примерами из высокой литературы (Апресян, 1995).
Проблема состоит в том, что в непосредственном общении, то есть вне письменной речи, на которой основан такого рода анализ, мы сплошь и рядом используем язык экзоцентрическим образом, из перспективы другого человека. Кроме того, в целом ряде языков (по некоторым данным они составляют до трети из примерно 6000 всех известных сегодня языков) лексика пространственной ориентации построена на абсолютной — экзоцентрической, а не эгоцентрической, как в русском или английском, — системе координат (см. 8.1.2). Это многообразие средств дейксиса может объясняться тем, где главный нейропсихологический «субстрат» наивной модели мира, а именно уровень концептуальных структур Е, рекрутирует фоновые операции пространственной локализации — на уровне С (эгоцентрические координаты целевых движений), D (экзоцентрическая, предметная система координат) или F (гибкая ориентация, центрированная на значимой личности). Поэтому во многих языках и культурах для того, чтобы осуществить самый эгоцентрический речевой акт, а именно назвать себя, необходимы сложные вычисления. Например, в японском языке для выбора подходящей формы местоимения «я» в разговоре нужно учесть свой возраст, возраст человека, с которым происходит общение, и, наконец, свой относительный социальный статус. Собеседник попеременно выступает при этом то в качестве фоновой системы отсчета, то в качестве фигуры.
88
Более объективным представляется статистический анализ языкового материала. Один из современных вариантов этого подхода — латентный семантический анализ — уже упоминался нами в начале этой главы (см. 6.1.1 и 7.4.2). Для психологии личности и ее приложений — дифференциальной психологии и психодиагностики — особенно важно выделение списка черт личности, который позволял бы эффективно ка-тегоризировать многообразие форм поведения человека. Подходы к решению этой задачи также чаще всего опираются на работу с имплицитным знанием, которое содержится в языке. В простейшем случае сотни прилагательных, используемых для описания свойств личности, подвергаются оценке сходства/различия, результаты которой затем факто-ризуются. Интересно, что подобный факторный анализ обычно выявляет примерно один и тот же список черт, получивший в последние десятилетия название «Большой пятерки» факторов личности (англ. Big Five или В5 — обозначение, вообще-то зарезервированное в политической лексике за странами, постоянными членами Совета Безопасности ООН). Близкие факторы были выделены и в исследованиях, проведенных с русскоязычными респондентами (Шмелев, 2002), с тем отличием, что в русском обыденном сознании эмоциональная составляющая, по-видимому, играет более выраженную роль, чем сознательный контроль (табл. 6.2).
Относя данные исследования к примерам изучения наивной психологии, мы ни в коей мере не хотим поставить под вопрос их научное значение, но лишь подчеркнуть, что черты личности — это типичные схематические компоненты концептуальных структур, которые поддерживают категоризацию, запоминание и воспроизведение информации в сфере межличностных отношений. Роль таких схематических форм знания, однако, ослабевает при увеличении реального опыта общения. Действительно, тенденция к использованию терминологии черт
Таблица 6.2. Возможная интерпретация пяти основных факторов, выделяемых в психометрических исследованиях черт личности (в порядке снижения весовых нагрузок — Шмелев, 2002)
Англо-саксонские данные |
Русская выборка |
Энергичность (экстраверсия) |
Активность (экстраверсия) |
Дружелюбие (конформность) |
Дружелюбие (моральность) |
Сознательность (самоконтроль) |
Эмоциональная стабильность |
Эмоциональная стабильность |
Сознательность (самоконтроль) |
Интеллект (открытость опыту) |
Интеллект (решение задач) |
89
личности становится менее выраженной при объяснении особенностей поведения хорошо знакомых людей или лиц, которые воспринимаются нами в каком-то отношении как «свои». В результате увеличивается готовность искать тем же самым поступкам сугубо ситуативные объяснения (Maas, 1999).
Хотя в современной психологии продолжается интенсивный поиск возможных генетических, биохимических и физиологических коррелятов черт личности как устойчивых внутренних диспозиций (см. 9.4.3), распространение получил и так называемый ситуативный подход, трактующий стремление психологов приписывать различия в поведении гипотетическим чертам личности как удобную, но в принципе довольно сомнительную стратегию объяснения («фундаментальную ошибку атрибуции» — см. 6.2.3 и 8.4.1). Основанием для этой последней точки зрения служат обширные эмпирические исследования, показывающие, что варьирование ситуаций наблюдения поведения резко снижает воспроизводимость (надежность) оценок характеристик личности, получаемых с помощью стандартных психометрических тестов (например, Росс, Нис-бетт, 2000).
Заканчивая обсуждение нашего обыденного сознания, нельзя не упомянуть такую важную его составляющую, как веру в сверхъестественное37. Своеобразное расщепление сознания, которое может заинтересовать психолога, заключается в том, что мы, с одной стороны, преклоняемся перед наукой и воспитаны на ее достижениях и идеалах, а с другой, временами следуем в своем поведении предрассудкам и суевериям. Миллионы людей в цивилизованном мире регулярно просматривают гороскопы, внимательно отслеживают траекторию движения каждой появляющейся в их поле зрения черной кошки и стараются не останавливаться в 13-м номере гостиницы (если таковой вообще еще оставлен в списке номеров), словом, демонстрируют то, что антропологи и этнографы называют магическим мышлением.
Насколько универсальны эти моменты внутренней жизни и в какой степени они подвержены культурным и ситуативным вариациям? Е. Субботский и Г. Квинтерос (Subbotsky & Quinteros, 2002) провели недавно исследование мышления у студентов одного из английских университетов и индейцев майя, в повседневную жизнь которых до сих пор органически входит вера в магию и колдовство. Эти авторы использовали в своих экспериментах специальную коробку, сконструированную таким образом, что помещенные в нее объекты могли незаметно для
![]() 37 Сверхъестественное, конечно, не следует путать просто с «нефизическим». Специ
37 Сверхъестественное, конечно, не следует путать просто с «нефизическим». Специ
фику особой, психологической причинности, как известно, подчеркивал уже Вундт (см.
1.2.2). Хорошим примером служат так называемые речевые акты (см. 7.1.2). Так, произ
несение в соответствующем социокультурном контексте фразы «Объявляю вас мужем и
женой!» может иметь для нас значительно более серьезные последствия, чем многие фи-
90 зичекие воздействия.
наблюдателя разрушаться. В экспериментах все происходило либо в «научно-техническом» контексте, после нажатия на кнопку в некотором устройстве, соединенном с коробкой проводом, либо после произнесения заклинания (это последнее авторы заимствовали в романе Тол-кина «Властелин колец»). Как и можно было предположить, между двумя группами наблюдались выраженные различия в готовности принять на веру магическое объяснение. Однако преобладание научной стратегии объяснения и соответствующее поведение сохранялись в английской выборке лишь до тех пор, пока ситуация эксперимента не была связана с возможностью какого-либо ущерба. При увеличении риска различия между группами исчезали. Если испытуемым предлагалось положить в коробку руку (или кредитную карточку), то и европейцы предпочитали — на всякий случай — учитывать возможную действенность «магического заклинания».
Противопоставление научного и магического, следовательно, должно быть несколько релятивизировано. Обе сферы хотя и слабо, но взаимодействуют между собой. Существует фундаментальная когнитивная потребность в объяснении. Здравый смысл подсказывает, что лучше допустить возможность не вполне научного объяснения, чем остаться без какого-либо объяснения вообще. Многие современные научные достижения, такие как передача речи и изображения на расстоянии или полеты в космос, по-видимому, были бы отнесены к колдовству и магии не только чиновниками Святой инквизиции, но и самими создателями европейской науки (Nemeroff & Rozin, 2000). Отметим также, что и наше отношение к религии подвержено ситуативным влияниям, так что ее роль, безусловно, возрастает в периоды витальной неопределенности38. Не случайно нет ни одной области приложения научных знаний, которая была бы столь тесно переплетена с откровенно антинаучными представлениями и практиками, как медицина. В одной из следующих глав мы рассмотрим расширенное психологическое представление о рациональности, позволяющее объяснить эти феномены (см. 8.4.2), а сейчас, после продолжительного обсуждения семантики, перейдем к анализу речевой активности и ее механизмов.
