Библиотека
Теология
КонфессииИностранные языкиДругие проекты |
Ваш комментарий о книге Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусстваОГЛАВЛЕНИЕЧасть III
|
|
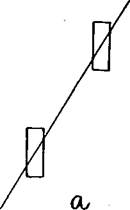
б
Рис. 7
Напротив, в начале другой своей поэмы [3, с. 108] Эмили Дикинсон вынуждает нас двигаться из центра наружу:
86
«Села года на равнину В своем вечном стуке, Наблюдение ее всеобъемлющее, Дознание ее повсеместное».
Или, если воспользоваться еще одним примером, лингвист, пытающийся убедить нас, что у предложений «Мальчик бежит за кошкой» и «Кошка бежит от мальчика» одинаковое смысловое содержание, обнаруживает лишь свою профессиональную некомпетентность.
Пространственные параметры, характерные для разных видов искусств, могут быть также рассмотрены в их отношении к расстоянию— термин, имеющий несколько значений. Во-первых, существует физическое расстояние между человеком и объектом искусства. Оно интересует нас здесь по той причине, что от него зависит возможность непосредственной манипуляции с этим объектом. Кроме того, физическое расстояние воздействует на зрительное, которое показывает, сколь далеко от человека узнается и переживается объект. Между физическим и зрительным расстоянием, однако, нет простого соответствия; объект искусства может казаться и ближе и дальше, чем на самом деле. Наконец, в дополнение к физическому и зрительному расстояниям есть еще одно расстояние, которое я называю личным и которое определяет степень взаимодействия или близости между человеком и объектом искусства.
Действие физического расстояния особенно стало ощутимым сравнительно недавно, когда сценические искусства попытались сломать существующие последние несколько веков барьеры между исполнителями, актерами и танцорами, с одной стороны, и зрителями, заполняющими залы театров и филармоний,— с другой. Несомненно, что даже выполненные в традиционном стиле постановки спектаклей определенным образом соответствовали пространственной структуре зрительного зала, точно так же, как для многих картин была нужна фиксированная точка обзора где-то в физическом пространстве наблюдения. Но даже при этом сцена была отдельным миром, а драма, происходящая на ней, выступала как самостоятельное, изолированное событие. Солист оперы или балета, выступая на сцене вперед, ближе к зрителю, признавал присутствие зрителей лишь в том смысле, что исполнял свою партию перед ними и для них, однако он никогда не обращался к аудитории (редкое исключение составляют, например, прологи и эпилоги шекспировских пьес) и никогда не требовал от нее активной реакции на свое исполнение.
Попытка обойтись без какой-либо дистанции между сценой и залом показала, что простой перестройки пространственной ор-
87
ганизации, однако, для этого недостаточно, так как и пьесы и техника игры мало были приспособлены к непосредственному контакту актеров со зрителем. Актеры, бегающие по проходам или перед зрителями, сидящими в первом ряду партера, перемешивались с чеховскими тремя сестрами в «театре по кругу» и кроме пространственного беспорядка мало что производили. Стало ясно, что пространственная интеграция потребует не меньше усилий, чем возвращение к разным социальным ролям у исполнителей и зрителей, т. е. к совместным встречам, где актеры бы вместе со зрителями участвовали в общих ритуальных действиях. Я убежден, что такие радикальные перемены не могут быть ограничены одними событиями из мира искусств, они должны затрагивать все общество в целом.
На меньшей шкале физическое расстояние определяет основное различие между большой статуей, рассматриваемой издали, и, например, нэцке — маленькими, сделанными из дерева или слоновой кости фигурками, которые «в течение каких-то 300 лет каждая хорошо одетая японка носила за поясом кимоно вместе с кошельком, сумочкой или лакированной коробочкой» [2]. Эти миниатюрные скульптуры не просто разрешалось ласково поглаживать, но предполагалось, что их владельцы делают это; при этом поглаживание рассматривалось как важный способ получения от миниатюры чувственного удовольствия. В то же время применительно к большим формам подобное занятие не допускалось, во всяком случае, к нему относились с явным неодобрением. Так, Гегель в своей «Эстетике» указывал, что «эстетическое наслаждение, испытываемое от произведения искусства, связано лишь с двумя теоретически выделяемыми чувствами — зрением и слухом, тогда как запах, вкус и осязание остаются вне связи с эстетическим наслаждением». Он замечает, что «созерцая скульптуру богини и получая от этого удовольствие, нет необходимости касаться руками нежных мраморных частей ее женского тела, как рекомендует вам делать ваш приятель-эстет» [5].
Помимо чисто пуританских аспектов, заключенных в таком табу, требование, чтобы наблюдатель находился от объекта искусства на определенном расстоянии, находит отражение в классическом представлении, согласно которому эстетическая позиция наблюдателя в целях сохранения чистоты должна быть беспристрастной и непредубежденной, свободной от собственнических побуждений «воли». Зрительному ощущению, в смысле дистанции, преимущественно отдается предпочтение перед телесным контактом при осязании.
И здесь снова происшедшая недавно смена эстетических оценок изменяет, видимо, требование отделенности субъекта от объекта — не только потому, что нынче высоко оценивается пол-
88
нота перцептуального опыта, когда, как пишут модные сегодня феноменологи вроде Мерло-Понти, тело встречает тело, но и потому, что сейчас особо подчеркивается важность естественного функционального взаимодействия между зрителем и объектом искусства. Эстетическая сторона в различии визуального и тактильного восприятий заключается не в психологически ошибочном представлении, будто зрение дает нам только образ объекта, тогда как осязание дает нам «сам объект» (все воспринимаемые объекты суть образы). Скорее существенной является меняющаяся степень воспринимаемого взаимодействия между лицом и объектом и, соответственно, мера «реального присутствия». Для лица, тяготеющего к скульптуре, лишь жесткое сопротивление •физического материала передает ощущение, что сам объект и его внешние свойства формы и строения «действительно присутствуют».
Благодаря своему физическому измерению, скульптура находится в одном ряду с мебелью и прочей утварью, предназначаемой для практического использования. Однако именно так — как к предметам, служащим, главным образом, для различного рода практических целей,— и относятся к ним, именно так и смотрят на них. Лишь как исключение эти предметы рассматривают в качестве объектов искусства, достойных созерцания. Возможно, поэтому огромное число посетителей музеев не обращает на скульптуры никакого внимания, в лучшем случае удостаивая их беглого взгляда, в то время как висящие на стенах картины внимательно и сосредоточенно изучаются. Стул или зонт не созерцают— ими либо пользуются, либо вообще не интересуются.
В то же самое время физическое существование скульптуры как объекта, обладающего весом и трехмерным объемом, делают ее перцептуально «более реальной», чем картины. Магические силы статуи религиозного характера обычно оказывают большее воздействие, чем изображения святых на алтаре; ее чаще боготворят, ей делают жертвенные подношения. Не без оснований иконоборцы были более терпимы к религиозным картинам, которые скорее походили на иллюстрации к религиозным сюжетам, предназначенным для изучения, чем к высеченным идолам, чье физическое присутствие вызывало непосредственное желание им поклоняться.
Различие между присутствием эстетического объекта в физическом пространстве и его простым визуальным появлением удивительным образом обнаруживается при сопоставлении покрытого краской полотна и визуального изображения на нем. Первое является физическим объектом, которого касается своим авторитетным перстом хранитель музея, второго же можно достичь, лишь указывая на него. Пигментированное полотно как
89
физический объект можно наблюдать, находясь в пределах его досягаемости, тогда как изображение отдаленного ландшафта на картине заставляет взгляд проникать на неопределенную глубину в пространство картины. Это различие было ликвидировано только совсем недавно, когда художники перестали ставить перед собой цель создания некоего иллюзорного изобразительного пространства, а вместо этого стали покрывать рисунком доски, что уже в принципе мало чем отличалось от создания скульптуры.
Еще менее осязаемы, чем нарисованные вдали объекты, ментальные образы, порожденные литературным повествованием и поэзией. Нарисованная живописцем аллея связана со зрителем по меньшей мере общим физическим пространством, но нет такой пространственной целостности, которая бы связывала читателя с психическими образами, возникающими в его мозгу. Они появляются в феноменологическом мире своего собственного, самостоятельного, но не определяемого расстояния.
Отсутствие перцептуального мостика между читателем и произведением можно, тем не менее, компенсировать сильным резонансом, соединяющим читателя с описываемой сценой. В этом смысле «личное расстояние», как назвал я его раньше, может быть сведено до минимума. Также сильное влияние на восприятие оказывает мера личного участия или вовлеченности в событие. Отметим, например, здесь, что истинный эстетический опыт не ограничивается пассивным восприятием возникающего вдали объекта искусства, но предполагает активное взаимодействие между художественным произведением и реакцией зрителя, слушателя или читателя. Анализ изобразительной или музыкальной композиции переживается как активное формирование воспринимаемого объекта, а объект, в свою очередь, навязывает свои формы исследователю как ограничения на его свободу: «Это я тебе позволяю делать, а это — нет!»
По ходу дела можно дополнить сказанное двумя наблюдениями. Во-первых, непосредственное обращение к материалу, такому, как глина или пигмент, подкрепляет ощущение, что подходит, а что нет данному средству. Воображением далеко не просто обеспечить объективный контроль. Так, архитектор, которого мы можем (недоброжелательно и несправедливо) описать как атрофировавшегося строителя, может найти, что его формы хороши лишь на бумаге, но когда дело доходит до материалов, отобранных для данной конструкции, они уже никуда не годятся. Подобно киносценаристу, этот архитектор есть не кто иной, как безрукий Рафаэль.
Во-вторых, необходимое отделение художника от его продукта далеко не всегда предполагает наличие физической дистанции между ними. Оба могут размещаться в одном организме даже
90
яри том, что не соответствуют друг другу каким-либо естественным образом, как соответствует, например, танец телу танцовщицы. Поразительный пример такого соединения дает onna-gata, актер-мужчина, исполняющий женскую роль в театре Кабуки. Зрелый мужчина передает на сцене движения и голос изящной девушки, не превращаясь при этом в женоподобное существо, не перенимая просто поведения девушки и не копируя его, а приспосабливая к себе стилизованный образ ее внешних признаков с помощью инструмента, каковым является его собственное тело, причем последнее остается узнаваемым, даже будучи скрытым под маской и костюмом. Это экстремальный случай внушающего благоговейный страх перевоплощения и способности с помощью своего собственного ума и тела воспроизводить живых людей, абсолютно отличных от самого себя. Вспомним старых мастеров— Майоля, Ренуара или Матисса,— создающих в глине или краске образ молодой женщины, вдохновляемый и насыщенный его характером, но тем не менее отвечающий ее природе.
Очевидно, что повседневное сценическое мастерство танцора или актера лишь степенью сходства с персонажем отличается от театрального исполнения роли японским актером onna-gata. Хотя образ, создаваемый на сцене обыкновенным актером, как правило, в большей степени похож на его собственные ум и тело, чем это бывает у onna-gata, актер тоже, перевоплощаясь, вкладывает в вымышленный персонаж свои природные особенности. Последний, однако, не целиком поглощает его личность, а остается под отдаленным контролем со стороны актера.
Все же наиболее впечатляющим образом демонстрирует силу своего воображения рассказчик или поэт, так как они в своем творчестве не прибегают вовсе к помощи тела как инструмента. В этой связи уместно будет вспомнить один абзац из вышеупомянутого произведения Новалиса:
1. Arnheim, Rudolf. Rundfunk als Horkunst. Munich: Hanser, 1979. Eng.: Radio, An Art of Sound. New York: Da Capo, 1972.
2. Bushell, Raymond. An Introduction to Netsuke. Rutland, Vt.: Tuttle, 1971.
3. Dickinson, Emily. Selected Poems. New York: Modern Library. 91
4. Ehrenfels Christian von. «Ueber 'Gestaltqualilaten'». In Ferdinand Weinhandl, ed., Gestalthaftes Sehen. Dannstadt: Wissensch. Buchgesellschaft, 1960.
5. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen uber die Aesthetik. Introd. 111, 2, and Part 111: «Das System der einzelnen Kunste, Einteilung».
6. Hornbostel, Erich Maria von. «Die Einheit der Sinne». Melos, Zeitschrift fur Musik, vol. 4 (1925), pp. 290—297. Eng.: «The Unity of the Senses». In Willis D. Ellis, ed., A Source Book of Gestalt Psychology. New York: Harcourt Brace, 1939.
7. Kramer, Jonathan D. «Multiple and Non-Linear Time in Beethoven's Opus 135». Perspectives of New Music, vol. 11, (Spring/Summer 1973), pp. 122— 145.
8. Marks, Lawrence E. The Unity of the Senses. New York: Academic Press, 1978.
9. Nietzsche, Friedrich. Der Wille zur Macht, 1886.
10. Novalis. Heinrich von Ofterdingen. Frankfurt: Fischer, 1963.
СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ*
Настоящее исследование было предпринято мною под влиянием сделанного наблюдения, что время, в противоположность тому, как обычно принято было думать, не является элементом разделяемого повсеместно опыта. Как-то в другой работе мне уже доводилось приводить пример танцора, совершающего прыжки на сцене. Я задал вопрос: «Является ли частью нашего опыта (оставляя в стороне более важный его аспект) то, что прыжок совершается во времени, т. е. что пока он продолжался, проходит время? Происходит ли прыжок из будущего в прошлое через настоящее? [1, с. 373]. Очевидно, что нет. И тем не менее событие «прыжок», как и всякое другое событие, описывается физиком как имеющее временной параметр. Должны ли мы отсюда сделать вывод, что для описания обычно воспринимаемого нами опыта понятие времени следует употреблять в особом, более ограниченном смысле?
Тот тип примера, который я только что привел, не ограничивается событиями, столь же краткими по длительности, сколь и прыжок танцора. Вся хореографическая деятельность (а в действительности весь концерт, целиком состоящий из хореографических номеров) актера на сцене может осуществляться так, что мы не почувствуем в ней компонент, который может быть описан только через обращение к понятию времени. Мы просто наблюдаем раскрывающееся, разворачивающееся в ощущаемом порядке событие. Аналогично, на протяжении двух часов в каком-либо месте могут идти оживленные споры, и ни у одного из присутствующих в сознании не возникнет представления о времени —
* Впервые эссе было опубликовано в журнале «Critical Inquiry». Т. 4, № 1, лето 1978 г.
92
т |
ак что если вдруг кто-нибудь воскликнет: «Время!»,—все удивятся. Когда я наблюдаю за водопадом, для меня не существует ни до, ни после, только непрерывное длящееся движение изобильного потока, однако когда я стою в аэропорту на месте выдачи багажа, ожидая свой чемодан, я отчетливо ощущаю, как течет время. Нетерпение, скука, страх являются теми условиями, при которых время выступает как особая, совершенно исключительная часть восприятия1. Архетипом временного опыта является комната ожидания, описанная Г. Немеровым как
«Куб, изолированный в пространстве и наполненный временем, Чистым временем, очищенным, дистиллированным, денатурированным временем, Без характерных признаков, даже без пыли...» [7].
К счастью, такой опыт представляет собой исключение.
Соблазнительно было бы проинтерпретировать более привычное восприятие каждодневных событий как «непроизвольный переход временного существования в пространственное». Такова, по сути, гипотеза Пола Фрэза. Он делает предположение, что пространственность соответствует визуальному восприятию, которое, будучи «самым точным» из сенсорных модальностей, с биологической точки зрения предпочитается всем прочим модальностям и среди них — темпоральности [4, с. 277]. В каком же смысле пространство точнее времени? Наиболее убедительным фактором в пользу биологического приоритета пространства является, видимо, то, что оно обычно заставляет предметы служить орудиями действий, и по этой причине предметы при восприятии имеют приоритет над производимыми ими действиями. Предметы, однако, живут в пространстве, тогда как время к действиям применяется или прикладывается.
Больше того, пространственная одновременность облегчает синопсис и тем самым понимание. Следовательно, теоретическая концепция мира вещей обычно выводится из состояния неподвижности или, точнее, из статической точки в пространстве2. От этой зародышевой точки одно за другим «растут» пространственные измерения до тех пор, пока пространство не становится трех-
1 В формулировке Вольфганга Цукера «Время — это условие существова
ния события, которое угрожает моему существованию, когда оно больше со
мной не согласуется». Появление настоящей работы во многом стимулировано
обменом идеями с покойным доктором Цукером.
2 П. Фрэз [4, с. 286] цитирует П. Жане, говорившего, что философы ис
пытывают особенный страх перед временем и пытаются скрыть его. А. Берг
сон [3] в первом предложении своего очерка о сознании пишет «et nous
pensons le plus souvent dans l'espace («и мы чаще всего думаем в простран
стве»).
93
мерным. Уже созревшему объекту в качестве четвертого, отдельного измерения времени добавляется свойство мобильности. Отсюда приоритет пространства над временем.
Итак, можно сказать, что транспозиция временных средств в пространственные происходит на самом деле, особенно если под транспозицией понимать замену последовательности на одновременность. Это бывает не для удобства, а по необходимости, когда разум меняет позицию участника, становясь созерцателем. Чтобы осмыслить событие в целом, надо рассмотреть его в одновременности, что означает пространственно и визуально. Последовательность по самой своей природе фиксирует внимание на моментальном, на дифференциале времени. Синоптический обзор, как ясно из самого термина, является зрительным (осязание— единственное чувство, не считая зрения, имеющее доступ к пространственной организации, также ограничено в сфере своей применимости, воздействуя, главным образом, на пространственные аспекты представления).
Гастон Башляр напомнил нам, что время не оживляет память. «Странная штука, эта память! Она ведь не регистрирует конкретную длительность в Бергсоновском понимании длительности. Раз сроки завершены, их нельзя пережить. О них можно только постоянно думать, думать о них все абстрактное время, не имеющее плотности. Только через пространство, в пространстве отыскиваем мы прекрасные окаменелости длительности, конкретизированной долгой остановкой» [2, с. 28]3. Такая транспозиция последовательности в одновременность приводит к любопытному парадоксу: музыкальная пьеса, драма, новелла или танец должны восприниматься как определенная разновидность визуального образа при условии, что они должны быть осмыслены как структурное целое. Живопись и скульптура являются манифестациями позиции созерцателя, отображая мир действий, трансформировавшийся в одновременность4. Здесь мы, однако, касаться данного вопроса не будем.
Для решения задач настоящего исследования транспозиция в упомянутых ранее примерах меняет последовательность на одновременность, хотя роль времени и пространства в процессах такого рода остается еще до конца не уясненной. Более того, примеры типа прыжков танцора, с которых я начал, не содержат
3 См. также Кофка [5, с. 446] о сходстве временной и пространственной памяти.
4 См. Арнхейм [1, с. 374]. См. также Мерло-Понти [6, с. 470], где утверждается, что даже в «объективном мире» движение воды с горных ледников до места, где река сливается с морем,— это не последовательность событий, а «одна, единая, неделимая и не меняющаяся во времени целостная единица».
94
вообще никакой транспозиции первоначального временного опыта в пространственный, а с самого начала являются пространственными. Можно также показать, что ряд проблем, которые я рассмотрел применительно ко времени, справедливы и в отношении пространства. Пространство, как и время, только при определенных условиях отражается в восприятии. Поэтому я прежде всего займусь пространством, после чего вернусь к обсуждению вопросов, связанных со временем.
Кажущаяся абсурдность моих рассуждений рассеивается, если только мы вспомним, что такие категории, как пространство и время, созданы человеческим умом для осмысления фактов физического и психического мира; тем самым адекватность утверждений про данные категории можно проверить, только лишь когда последние применяются для описания и интерпретации этих фактов. Для определенных научных и практических целей необходимо заранее определить систему пространственных координат и хронологическую последовательность, к которым рассматриваемые факты автоматически приложимы. Нанесенная на географическую карту координатная сетка позволяет установить местонахождение любой точки на земном шаре, а обычные часы и календарь дают возможность упорядочить события мировой истории, определяя между ними отношения предшествования, следования и одновременности.
Такое предварительное задание структуры времени и пространства, хотя и бывает необходимо для координации событий, является, как говорят немцы Strukturfemd, т. е. инородным образованием по отношению к тем системам, к которым оно применяется. Картезианская пространственная сеть связывает все, что отваживается в нее попасть, независимо от того, соединены ли компоненты предметов, подлежащих оценке или измерению в данной сети, или они отделены друг от друга. Меридианы и параллели безжалостно режут ее по побережьям морей и океанов, горных кряжей и границ городов, а часовые стандарты настолько явно смешиваются с местными ритмами дня и ночи, что часовые пояса можно рассматривать как уступку местным требованиям.
В то время как в научных и практических целях или, например, в аналитической геометрии такие чужеродные наложения на живую структуру объектов применяются с неизбежностью, при обычном восприятии они вовсе не являются необходимыми. При спонтанном восприятии главным образом даны предметы в действии. Восприятие не желает, да и не может, анализировать поведение, разграничивая четыре измерения. Вспомним о мученических усилиях при попытках ликвидировать цельность и единство записи движений актрисы, исполняющей на сцене свой танец. Во время непосредственного исполнения сделать это невоз-
95
можно: оно не допускает никакой редукции. Вместо этого танцовщица стоит вертикально или наклонившись, она поворачивается налево или направо, нагибается и выпрямляется, двигается и останавливается в едином, нерасчлененном действии.
Подобно тому, как сложное поведение сопротивляется какой бы то ни было перцептуальной редукции по трем пространственным осям, всякое различение форм статических тел и форм движения оказывается искусственным. Когда танцовщица отталкивается для прыжка, нет никакого разумного способа отличить вклад в это действие форм рук, туловища и ног от вклада, привносимого в него траекториями плавно изогнутых, прямых или искривленных движений. Еще более очевидно это для образно-метафорических искусств живописи и скульптуры, где визуально воспринимаемая динамика телесных форм, таких, как, скажем, форма дерева или пирамиды, передается теми же средствами, что и движение скачущей лошади или океанской волны. Визуальная динамика — это неделимая, не дробящаяся на отдельные части в пространстве и во времени сущность. Мы можем отсюда заключить, что только отбросив заранее установленные структуры пространства и времени и вместо этого непринужденным взглядом окинув категории, в которых нуждается наш перцептуальный опыт, мы воздадим ему должное.
Для нас более всего важно то, что различные величины, связанные с появлением объекта или с действием, воспринимаются как свойства самого объекта, а не как свойства какой-либо доминантной структуры или силы. Передвигается по сцене, поворачивается и останавливается сам актер. Растет и движется по небу грозовое облако. Наклонная башня отклоняется от вертикали— от измерения, которое рассматривается как потенциально ингерентное для самой башни или как актуально заданное в окружающих башню зданиях. При помощи одного и того же знака эти параметры или свойства распространяются только вместе с объектом. Есть что-то забавное в том, что Аристотель указывает на пустое пространство как эквивалент ранее занимавшего данное место объема (см. Категории б, 5а, 10 и Физика 4.1. 208б). Между формой объекта и чужеродной территорией вне объекта, к которой неприложимы все его измерения, устанавливается отношение типа каламбура.
Очевидно, что параметры и категории, необходимые для описания упоминавшихся примеров, являются пространственными. Пространственными являются не только размер и ориентация, но также направление и скорость движения. Объект сам создает механизм, управляющий тем, что я буду называть внутренним, или неотъемлемым, пространством. Однако мы, между тем, совершенно упустили из виду время. В наших примерах оно никак — ни
96
внешне, ни внутренне —не фигурировало. Позже я предприму попытку разобрать ряд вопросов, относящихся ко времени
Однако прежде всего необходимо решить одну проблему которая возникает, когда мы утверждаем, что объект сам обеспечивает организацию собственной пространственной структуры Как может данное утверждение быть верным, если известно что воспринимаемые признаки, такие, как размер, направление и скорость, являются относительными, т. е. зависящими от контекста? Чтобы дать ответ на этот вопрос, следует посмотреть, что имеется в виду под радиусом действия объекта.
Поскольку речь идет о восприятии, нельзя определить границы
объекта только по физическим или прагматическим критериям
Существенно то, насколько велико расстояние до объекта чтобы
тот мог быть воспринят. Взглянем на картину Гойи где изоб
ражена коррида (рис. 8). '

Рис. 8. Гойя Франсиско. Коррида. 1822. Метрополитэн музей, Нью-Йорк.
97
В центре картины пикадор на лошади смотрит на изготовившегося для нападения быка. Как воспринимаемый объект всадник определяется направленной вперед осью и симметричными формами как человека, так и его лошади. Эта ось симметрии проходит за пределы человеческой фигуры до ее окружения, где встречает аналогичный вектор, испускаемый, также симметричной, формой атакующего быка. Копье всадника и рога быка усиливают действие векторов, пересекающихся под углом друг к другу.
Каждый из двух векторов принадлежит своему объекту, однако про их пересечение можно сказать, что оно не принадлежит ни одному из них. Оно может перцептуально не существовать, отчасти напоминая переход наплывом от одного кадра фильма к другому. В этом случае две стрелы не обращают друг на друга внимания; между ними не существует никакого отношения. Их пересечение в расчет не принимается. Они выступают как посланники от отдельных систем, каждый занятый своим делом. В противном случае пересечение существует как воспринимаемое отношение. Но тогда встает вопрос, кому оно принадлежит? Есть две возможности:
Внешнее пространство контролирует и управляет отношениями между разными независимыми системами объектов, снабжая их нормами референции для воспринимаемых признаков. Можно сказать, что на картине Гойи во внешнем пространстве встречаются всадник и бык. Вообще, на этой картине можно обнаружить много столкновений между объектами. Здесь есть группы участников и группы наблюдателей. Есть квадратная по форме арена, где происходит сражение, и ряд зданий. Каждая из этих единиц образует систему перцептуальных сил, действие которых проходит за границы объектов в их окружение. Такое взаимодействие между силами, исходящими от нескольких соседствующих друг с другом систем, способно породить независимое пространственное поле, отдельное от остальных таких полей. Особенно ча-
98
сто это бывает в архитектурных оформлениях. Там может быть небольшая замкнутая площадь, перцептуально созданная свойствами размера и формы окружающих зданий. Композиция скреплена воедино внешней пространственной системой площади, которая отделяет саму площадь от примыкающих улиц.
Между тем такой способ рассмотрения отдельных объектов в дополнительной системе внешнего пространства, по-видимому, противоречит одному из основных свойств произведений искусства. Произведение представляется состоящим из изолированных компонентов, при этом не учитывается его целостность. Чтобы обеспечить единство всех частей произведения, полная структура должна контролировать место и функцию каждой части. Так, чтобы понять картину Гойи, я должен видеть ее как целое. Способ, которым мы до сих пор вели свои рассуждения, является полезным приближением к тому, что называется изобразительным пространством, но это подход, так сказать, «снизу», который необходимо дополнить подходом «сверху».
2. Мы подошли к тому, что я выше назвал вторым подходом к изобразительной ситуации. Начнем с того, что спросим себя, не будет ли более естественным и правильным рассматривать пикадора и быка как принадлежащих к одной и той же всеобъемлющей системе, а не как относящихся к двум самостоятельно функционирующим системам, встречающимся во внешнем пространстве. Такая точка зрения, однако, предполагает глубокую перестройку воспринимаемой ситуации. Внешнее пространство исчезает и превращается в простой промежуток между двумя компонентами более крупного единого «объекта». Она становится лишь внутренним зазором, принадлежащим внешнему пространству не более, чем пустота горшку, или, если воспользоваться примером из области искусств, чем меняющееся расстояние между двумя стальными брусками, движущимися взад-вперед в мобиле Джорджа Рикки.
Применяя этот новый подход к произведению как целому, мы получим концепцию, в которой произведение рассматривается как единый «объект», чье внутреннее пространство состоит из отношений между различными компонентами, контролируемыми и управляемыми общей структурой. Это вовсе не означает, что мы отбрасываем понятие внешнего пространства как неправильное. Напротив, мы утверждаем, что есть два пути анализа изобразительного пространства, которые должны оба учитываться во всех случаях. Отталкиваясь от композиции как от целого, мы видим сеть переплетающихся друг с другом единиц и интервалов, занимающих надлежащее место в одной целостной, всеобъемлющей системе и связанных вместе внутренним пространством. Однако если мы начинаем анализ не с композиции в целом, а с
7* 99
отдельных элементов, то видим столкновение подсистем, пересечение, отталкивание или соответствие их друг другу, и все это происходит во внешней пространственной системе. Чтобы понять смысл произведения искусства, необходимо понять обе его структурные составляющие — природу целого и поведение его частей. Различие в подходах становится очевидным, если сопоставить произведения, в которых подчеркивается тот или иной подход. В европейском изобразительном искусстве девятнадцатого века прослеживается растущая тенденция (достигающая кульминации в поздних работах К. Моне) рассматривать область картины как неразрывное целое. Вместо того, чтобы войти в обособленный задний план, промежутки приобретают собственные отличительные признаки. Все находится на переднем плане картины, и требуются определенные перцептуальные усилия, хотя и не без вознаграждения за это, чтобы идентифицировать части целого и расположить их друг против друга. При сопоставлении, если посмотреть на выполненные в традиционном стиле картины, где изображена группа фигур или портрет человека, нередко обнаруживается ясное различие между системами векторных сил, выходящих из объектов, и окружением, куда эти векторы приходят. Противодействие внешнего пространства часто настолько слабое, что векторы объектов направлены на пустое место, которое, видимо, продолжается как apeiron*, выходя за границы конструкции, форма которой не обладает собственной структурой. Этот второй путь анализа изобразительного пространства проще. Он напоминает практическое восприятие в повседневной жизни, когда внешнее пространство сводится к нейтральному фону и, следовательно, может быть полностью проигнорировано — способ видения, нашедший свое отражение в любительских моментальных снимках, которые ни на чем ином, кроме как на переднем плане, не сосредоточены.
* * *
Может ли противопоставление внутреннего и внешнего пространств быть перенесено на время? Представляется, что время только тогда принимает участие в ситуации восприятия, когда принадлежит к внешней системе, между тем как функцию внутреннего времени берет на себя внутреннее пространство.
В начале этой работы я утверждал, что обычно время не является отдельным компонентом восприятия событий, хотя в естественных науках, а также в ряде практических задач, таких, как составление расписаний, все события автоматически помещаются в независимые временные рамки. Пример с прыжком
* Apeirons, греч. «безграничное»— бесформенное, безграничное начало, апейрон (в противоположность пределу)—(Прим. перев.).
100
танцора показал, что такие действия, как правило, воспринимаются как включающие в себя не время, а пространство. Я встаю со стула, подхожу к книжной полке, беру книгу и возвращаюсь к письменному столу. Такое поведение состоит из намерения и подвижного мускульного действия, смен мест и т. д. Последовательность букв алфавита не содержит времени; то же верно и в отношении последовательности чисел (Аристотель, Категории 6.5а, 15). Черты человеческого лица должны образовывать правильную последовательность: лоб, глаза, нос, рот, подбородок. В опыте учитывается именно порядок предметов в последовательности— независимо от того, воспринимается она как ряд или как одновременность. Различие между одновременностью и рядом, разумеется, значимо и отмечено. Однако оно воспринимается как различие между свойствами или параметрами внутри самого объекта. Для того, чтобы охарактеризовать объект перцептуально, не требуется обращения к понятию времени. Это становится очевидно, если рассмотреть для сравнения ситуации, включающие время как один из параметров.
Начну с простого случая движения человека к некоторой цели. Мы уже знаем, что в восприятие этого события входит как отдельный компонент внешнее пространство, когда движущийся человек и цель воспринимаются как относящиеся к разным системам, так что сокращающееся расстояние между ними не принадлежит ни к одной из них. По мере своего движения человек стремится приблизиться к цели вплоть до совпадения с ней во внешнем пространстве. Наше событие имеет также определенную длительность, скажем, двадцать секунд, но с точки зрения восприятия оно содержит время, только если мы спросим: «Достигнет ли человек своей цели вовремя?» Предположим, что некто вбегает в поезд метро прежде, чем закроются двери. В этом случае видимая пространственная цель наделена вторым, добавочным значением. Для удачного исхода здесь необходимо не просто совпадение вбегающего в вагон человека с его целью в событийном пространстве, но также определенное отношение между ними во временной последовательности: вбегание человека в вагон должно предшествовать закрыванию дверей. При таких условиях время выступает как активный признак перцептуальной ситуации и, следовательно, как необходимый компонент для ее описания.
Такое временное событие вовсе не обязательно параллельно соответствующему действию в пространстве. Неопределенность в фильме часто достигается за счет несоответствия визуальной ситуации, статичной по своей природе, и движением времени к пределу. Это верно для отсчета времени в обратном порядке, как при запуске ракет или при ожидании чайника, который никакие
101
хочет закипать. Важную роль играет время в напряженных отношениях между готовой вот-вот взорваться визуально неподвижной системой и образом ожидаемого взрыва как целью системы. Такое несоответствие в напряжении двух систем необязательно отражается в визуальной ситуации. Бесстрастное, монотонное тиканье часов создает вызывающий раздражение контраст со временем, «бегущим» в ситуации тревожного ожидания. Отметим, однако, что всякий раз, когда событие происходит в единой временной системе, а не тогда, когда оно связывает две независимые системы, время исключается из объекта перцепции, И его функцию берет на себя пространство. Два человека приближаются друг к другу, чтобы пожать руки в приветствии. Обычно мы видим, как происходит это событие не во времени, а в пространстве. Внутреннее время не воспринимается — возможно, потому, что временное измерение не обладает собственным сенсорным средством.
То же самое, видимо, относится и к музыке. Внешнее время может быть воспринято, только когда фрагменты музыкального произведения воспринимаются как отдельные системы, как, например, в голосовых или инструментальных перекрытиях фуги. Условие это, однако, крайне редко выполняется. Музыка, в отличие от живописи, где всадника без особого труда можно отделить от быка, представляет собой мощный единый поток, компоненты которого являются скорее подразделениями, чем самостоятельными частями целого. Партии в фуге составляют такое же прочное единство, как и кровельный шифер на крыше, и оказывают стойкое сопротивление какой-либо эмансипации. Музыка льется, как водопад, так что все accelerando и ritartando * в ней воспринимаются как внутренне присущие музыкальному поведению свойства. Обычная скорость, увеличение или уменьшение которой ощущается как отклонение, подобно синкопическим ритмам, воспринимается, как правило, не как внешний стандарт, а как свойственная самой музыке структурная норма, так сказать, ее сердцебиение. Этим она напоминает вертикальную ориентацию, от которой отклоняется падающая башня и которая также может восприниматься как виртуальное свойство самой башни.
И все же, по-видимому, было бы неправильно утверждать, что все эти музыкальные события происходят во внутреннем времени. Конечно, они воспринимаются как секвенциальные, но эта секвенция ничуть не более временная, чем прыжок танцовщицы. Как и о действиях танцовщицы, о музыке нельзя сказать, что она приходит из будущего и проходит через настоящее в прош-
* Accelerando (им., муз.)—ускоряя; ritartando (им. муз.)—замедляя. (Прим. перев.).
102
лое. Она вся заключена в «музыкальном пространстве»—средство, чьи особые перцептуальные свойства не раз рассматривались в работах по психологии музыки. И здесь снова, по всей вероятности, внутреннего времени не существует.
Музыкальные события, включающие в себя внешнее время, очевидным образом отличаются от рассмотренных. Наиболее показательны в этом отношении примеры, которые дает нам современная музыка. В современных музыкальных произведениях непрерывный мелодичный поток намеренно членится таким образом, что даже самый короткий интервал между отдельными частями является достаточно сильным средством, способным превратить связываемые части в самостоятельные, и к тому же весьма часто направленные, системы. Время выступает здесь как единственный субстрат, организующий эти системы в единое целое. Соответственно слушатель всякий раз оказывается в состоянии «ожидания следующего звука».
Обычно же внешнее время можно увидеть в музыке в тот момент, когда мелодическая и гармоническая структуры возвещают о приближении мелодии к кульминации, например, к финалу. В этом случае цель определяется в предположении об осведомленности о ней слушателя и представляет собой отдельную независимую систему, к которой устремлена мелодия. Большинство других приходящих на ум примеров относятся к разряду экстрамузыкальных, т. е. связанных с музыкой лишь постольку, поскольку та находится в определенной связи с чем-то, что лежит вне ее. Слушатель, который вместо того, чтобы двигаться вместе с музыкальным потоком, остается вне его и наблюдает за сменой музыкальных фраз так, как будто смотрит с трибуны парад, помещает себя в отдельную темпоральную систему, чье отношение с системой музыки управляется временем. Вспомним в этой связи также радиоспектакль, заканчивающийся, согласно установленному распорядку, за час, или психическое состояние зрителя на концерте, волнующегося о том, как бы успеть домой на пригородном поезде.
Как и музыка, литературное повествование обычно воспринимается как непрерывный поток. Чтобы описать секвенциальное действие, не требуется обращения к времени. Произведение рождается, развивается, вырастает, во внутреннем его пространстве происходят различные действия. Однако, как только непрерывность разрушается и происходит сбой связности повествования, например, когда вторичное появление какого-либо персонажа никак не связывается с его присутствием в предшествующем фрагменте текста, оба появления можно рассматривать как отдельные системы. Единственным средством, способным скрепить эти две разорванные части, является время, охватывающее каждую из
103
них. Обычно такая ситуация считается дефектом композиции. Опытный рассказчик избегает подобных провалов, заранее предусматривая наличие сюжетных линий, соединяющих прошлое и настоящее появление персонажа, как говорят психологи, внемодельно, что напоминает поезд, движение которого воспринимается как непрерывное, даже если он скрывается на какое-то мгновение в туннеле.
Приключения также находятся под контролем внешнего времени. Когда читатель Стендаля хочет узнать, удастся ли Фабрициусу убежать из тюрьмы прежде, чем его отравят враги, две сюжетные нити — приготовление к побегу и дьявольские интриги— развиваются как независимые одна от другой системы, встреча которых имеет решающее значение. А когда время само выступает как подлинный литературный персонаж, такой, как «всепожирающее время» из девятнадцатого сонета Шекспира, притупляющее когти льва и рвущее клыки из пасти леопарда, оно само становится активной системой и поэтому заслуживает написания с заглавной буквы.
Сделанные наблюдения помогут нам охарактеризовать такие сложные структуры, как романы или фильмы Новой Волны. Когда нарушается последовательность повествования, читатель или зритель вынуждены реконструировать объективный порядок событий. Пытаясь это сделать, они хотят определить для рассыпанных частей их место в структурно изолированной системе, предложенной пространством и временем. Однако если читатель или зритель свои усилия сконцентрирует исключительно на воссоздании объективной реальности, они могут упустить из виду наиболее существенный момент в структуре произведения. Описание, хотя и является разрывным и потому неупорядоченным с точки зрения объективной реальности, должно быть понято и принято как имеющая самостоятельную ценность последовательность, поток диспаратных частей, сложным образом организованных и странным образом соотнесенных одна с другой. Когда такой «кубистический» порядок воспринимается как единое целое, ни время, ни пространство не могут в него проникнуть, став его компонентом.
Теперь мне остается лишь встретить возражения по основному тезису настоящей работы. По-видимому, структуры, которые я приписал времени и пространству, накладывают невыносимые ограничения на язык, необходимый для описания произведений искусства. Но что будут делать критики и историки искусства, если запретить им говорить о пространстве и времени? Мы вовсе не предполагаем связывать их таким образом, навязывая столь жесткие ограничения. Просто утверждается, что когда пространство выражено имплицитно, оно не составляет отдельного ком-
104
1. Arnheim. Rudolf. Art and Visual Perception. New version. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1974.
2. Bachelard, Gaston. La poetique de L'espace. Paris. Presses Universitaires, 1964. Eng.: The Poetics of Space. Boston: Beacon Press, 1964.
3. Bergson. Henri. Essais sur les donnees immediates de la conscience. Paris: Presses Universitaires, 1948. Eng.: Time and Free Will: and An Essay on the Immediate Data of Consciousness. London, 1959.
4. Fraisse, Paul. Psychologie du temps. Paris: Presses Universitaires, 1957. Eng.: The Psychology of Time. New York: Harper, 1966.
5. Koffka, Kurt. Principles of Gestalt Psychology. New York: Harcourt Brace, 1935.
6. Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.
7. Nemerov. Howard. «Waiting Rooms». In the Western Approaches. Chicago: University of Chicago Press, 1975.
Не так-то уж много возможностей предоставляет наш век теоретикам и критикам для анализа творчества великих мастеров прошлого. Напротив, что касается изобразительных средств, то тут существует значительное разнообразие — ситуация не столь
* Этот очерк представляет собой сокращенный и слегка измененный вариант работы автора «Визуальные аспекты конкретной поэзии», опубликованной в сборнике «Yearbook of comparative criticism». T. 7, 1976.
105
благоприятная для самовыражения, но очень привлекательная для экспериментатора и представляющая большой интерес для аналитика.
Все средства сенсорного выражения близки друг другу, и хотя каждое из них стареет в меру своих свойств, его иногда можно омолодить, разумно комбинируя с соседями. Столкновения статичного, неподвижного искусства с динамическим, подвижным, двухмерного с трехмерным, полихроматического с монохроматическим, визуального с аудиальным вынуждают зрителя с настороженностью подходить к тем свойствам искусства, которые кажутся сами собой разумеющимися, так как безраздельно господствуют в пределах данной художественной формы. Выразительный и весьма поучительный пример комбинации письменного языка и визуального изображения дает конкретная поэзия. Хотя зрительный образ и письмо родились и развивались вместе и никогда не были полностью изолированными одно от другого, их недавно возникшее взаимное влечение оказалось подобным бальзаму на раны, болезненно разделяющему эти средства. Промышленная революция восемнадцатого и девятнадцатого столетий принесла с собой целый поток печатной и письменной продукции; каждому, кто посещал школу или соответствующие курсы, стало доступно искусство скорописи; развитие техники стенографии и машинописи, а сравнительно недавно и широкое внедрение персональных компьютеров, умение бегло просматривать нужную литературу в поисках необходимой информации и усваивать последнюю привели к беспрецедентному снижению самоценности языка как визуальной, устной или письменной форм выражения.
Постоянное проглатывание наспех произведенной языковой продукции накладывает известные ограничения на возможности разума, связанные с переработкой получаемой «информации», т. е. сырого материала по поводу отдельных фактов. «Никогда еще у нас не было столько письменной продукции,— заметил поэт и критик Франц Мои в своем вступительном слове на открытии персональной выставки 1963 года «Искусство и письмо» в музее Стеделейка в Амстердаме.— И никогда сам письменный язык не давал нам так мало. Он, как корка, все собой покрывает» [2].
Данный диагноз того, что случилось с языком, отражает доминирующие в обществе культурные тенденции. Если бы мы со столь же общей перспективы попытались определить, что происходило с живописью со времен Ренессанса, то обнаружили, что стремление как можно точнее передать на картине саму жизнь сделало менее значимыми и заметными формальные характеристики цвета и формы. Внимание зрителя всецело переключилось на содержание произведения, что стало особенно заметно на фоне растущей популярности фотографии и использования ее теле-
106
графными агентствами. Пренебрежительное отношение к форме повлекло за собой постепенный переход от отражения на полотнах мыслей и образов к изображению подлинных, реально существующих красивых пейзажей, натюрмортов, животных, а также человеческих фигур. Символическое изображение религиозных, монархических или гуманистических идей вылилось в портретирование исторических и жанровых сцен.
Короче говоря, и язык и изображение как средства формального выражения нуждались в обновлении. Такое обновление принесло с собой стилистическое совершенствование современного искусства и современной поэзии. К тому же визуальные средства необходимо было обогатить новым содержанием, вновь повернув их к мысли. Возможно, что в какой-то степени этим целям служит конкретная поэзия. Благодаря ей мы по-новому смотрим на язык, а именно как на средство визуального выражения; кроме того, конкретная поэзия вводит в визуальные образы элемент смысла полнозначных слов.
На самом элементарном уровне знак трудно отличить от образа. Георг Кристоф Лихтенберг рассказывает нам о привратнике Фредерика Великого, который должен был фиксировать все приходы и уходы молодых принцев и принцесс, и отмечал каждый вход и выход мальчика как 1, а девочки — как 0[1]. Что это, знаки или иконические изображения? Исторически, однако, эксплицитные образы, по-видимому, появились и развились достаточно рано, и гораздо чаще они обозначали вещи, чем лиц. Они служили изображением конкретного кабана, конкретного оленя, сверхъестественных сил, мужчины и женщины. Обобщенный характер значения делает их весьма полезными в идеографии, где они выступают в роли маркеров понятий.
Из истории письма мы узнаем, что необходимость стандартизовать изображения и делать их лаконичными постепенно трансформирует изображения в простые и зрительно четкие рисунки, которые можно легко читать или вырезать из дерева. Однако их иконическое значение проявляется и спустя многие тысячелетия, так что современный японец, задумавшись, может по-прежнему видеть восходящее из-за дерева солнце в тот момент, когда смотрит на иероглифический знак «Кэнджи», обозначающий восток в слове Токио, восточной столице. И даже если визуальная этимология полностью исчезает, остается, по крайней мере, соответствие между отдельным понятием и его знаком.
Это исключительно важное взаимно однозначное соответствие между обозначающим и обозначаемым кажется уничтоженным навсегда, когда на смену идеографии приходит слоговое или буквенное письмо. Речь разрушает прямую связь между объектом и его изобразительным знаком. А письмо, больше того, явля-
107
ется инструментом, рассекающим единую звуковую ткань каждого слова на небольшое число фонемных единиц, и мы в конце концов остаемся с множеством знаков, элементы которого вместе с их комбинациями не несут никакой информации об обозначаемых объектах. Однако верно также, что нам удается извлечь определенную пользу из всей этой сложной системы сходств и различий между компонентами слов и, следовательно, понятий. При этом возникает мир отношений, почти целиком чуждый миру вещей,— невероятный мир сновидений и грез, по которому с удовольствием бродят остряки и поэты.
Язык описывает объекты как отдельные сущности. Такую же автономию он признает и за частями объектов, так что рука, кожа или кровь человека, как и все его тело, предстают в виде отдельных независимых единиц. Язык преобразует в объекты даже свойства и действия, отделяя их от обладателей и участников действий. Одно дело земляника и совсем другое ее краснота; когда мы слышим об «убийстве Авеля», убийство вербализовано в виде объекта, хотя и связанного, но отделенного от другого объекта — жертвы. Точно так же овеществлены временные и пространственные отношения, логические связи. Это означает, что говорить — это ни что иное, как расчленять цельный образ на отдельные части в целях общения, подобно тому, как демонтируются узлы и части машины перед ее погрузкой.
Основным механизмом, на который полагается язык при реконструкции образа, являются пространственные отношения между словами, и главное из них, которое используется для этой цели,— это линейность. Однако линейность не является ингерентным свойством языка. Если бы о ней надо было вспомнить, то это сделала бы конкретная поэзия. Язык становится линейным, только когда он используется для кодирования линейных событий, когда он служит средством передачи информации о том, что происходит во внешнем мире, например, когда рассказывается какая-то история или когда язык сообщает информацию о событии из мира мыслей (например, когда с его помощью воспроизводится логическое рассуждение). Зрительные представления в меньшей степени зависят от линейности. Они рассматривают и размещают воспринимаемые объекты в трехмерном пространстве; они могут также синтезировать действия, рассыпанные во времени. Так происходит, в частности, когда художник изображает центральный момент какого-либо события или какой-нибудь истории. Если, однако, мы хотим понять отношения с помощью рассуждений, нам для этого понадобится установить или проследить все линейные связи в чувственно воспринимаемом мире одновременности. Именно так обстоит дело, когда мы говорим, что одна вещь превосходит по величине другую или похожа на нее, а
108
также когда мы наблюдаем, как поднялась луна и как свет ее озарил море, и сообщаем об этом.
Когда язык обслуживает такого рода рассказы или рассуждения, он с необходимостью должен стать линейным. Наиболее приемлемым для глаз выражением линейности является цепочка слов такой же длины, как и сам рассказ. Для удобства мы членим ее на единицы, имеющие нормальную длину, подобно тому, как делим манускрипт на страницы. Визуальные аспекты такой упаковки чужеродны структуре текста; так, обрыв строки или конец страницы вовсе не предполагают соответствующего разрыва в повествовании.
Обычно, однако, письменная и печатная проза содержит разделы, отражающие структурные свойства текста. Слова в тексте разделяются пробелами, то же самое справедливо и для предложений. Абзацы маркируют завершение эпизода или конец мыслей. Распространяя изображение структуры содержания текста дальше, поэзия на глаз отличается от прозы. И это зрительное изображение не является поверхностным. Членение текста на более мелкие единицы возвращает нас к самым ранним формам существования языка — однословным предложениям, коротким фразам. Если мы сопоставим типичный фрагмент прозы с типичным стихотворением—тем самым оставляя в стороне всю область различных литературных форм, объединяющих в себе одновременно характеристики прозы и поэзии — то можем взять на себя смелость сказать, что эти две формы дискурса соответствуют двум основным компонентам человеческого познания, а именно: установлению каузальных последовательностей в воспринимаемом мире и постижению единичного опыта, относительно изолированного и существующего вне времени. Из этих двух разновидностей вторая очевидным образом психологически более ранняя.
Этот вид познания охватывает сравнительно ограниченную ситуацию, эпизод, внезапное появление, желание или страх, небольшое событие. Все устойчивые единицы нашего опыта, соответствующие ограниченной организующей силе молодого разума, отражаются в элементарном языке, таком, как детский. Но даже на самом высоком уровне человеческого понимания осознание ограниченных, синоптических ситуаций остается одной из главных составляющих психической деятельности.
Зрительно оно выражается во вневременных образах живописи, скульптуры, архитектуры и т. п., а словесно — в лирическом стихотворении.
В своей прототипической форме стихотворение короткое потому, что оно является обзорным, синоптическим, подобно картине, а его содержание должно восприниматься как отражающее одно
109
состояние дел. По традиции это обстоятельство не лишает содержание стихотворения изменчивости, событийности и развития, но оно укладывается в единую обозримую ситуацию. В основном стихотворение является ахроничным, как и картина, и так же, как картина, не должно делиться на два отдельных структурных фрагмента; нас крайне раздражает, когда стихотворение переходит на соседнюю страницу.
Что верно для стихотворения в целом, верно и для его частей. Визуальная автономия каждой строчки в какой-то степени выделяет ее из целостности общей последовательности и представляет ее как ситуацию внутри ситуации. Это ясно видно на примере японского хокку. Движение во времени происходит от начала к концу стихотворения подобно рассказу в нарративной прозе и перекрывается столь же важной второй структурной моделью. Перед нами скорее координация, чем последовательность элементов. Внимательное прочтение стихотворения требует значительного количества возвращений назад и продвижений вперед и напоминает разглядывание картины, поскольку стихотворение раскрывает свои тайны лишь в одновременном присутствии всех своих частей.
Вневременная координация частей усиливается за счет повторов и чередований—двух излюбленных механизмов конкретной поэзии, доводящих ахронию до своего экстрема. Повтор нарушает принцип потока Гераклита. То же самое делает возвращение; в отношении между тождественными объектами нет понятий «до» и «после». Как в музее, поэтический повтор в созвучиях, ритме и рефрене связывает объекты вместе вне временной последовательности и подчеркивает одновременный характер произведения в целом. Чередование, предполагающее повтор, также режет поэтическую последовательность на части, представляя конкурирующие последовательности в пределах одних и тех же частей как равно необходимые. Систематическая перестановка строк или слов, практикуемая отдельными авторами конкретной поэзии, самым радикальным образом служит этой цели. На рубеже между более традиционной и конкретной поэзией лежит стихотворение, написанное Юджином Гомрингером [3, с. 90, 253]:
avenidas
avenidas у flores
flores
flores y mujeres
avenidas
avenidas у mujeres
avenidas у flores у mujeres у
un admirador
110
Простое и приятное, это стихотворение вполне традиционно в своей линейной последовательности формы и содержания. Чтобы свести в один образ три основных компонента, поэт использует параметр времени. Он начинает с улиц, украшает их цветами, населяет женщинами и внезапно со старомодным театральным эффектом вводит в повествование, как последний штрих, кавалера. Перед нами возникает буквальным образом крещендо нарастающих размеров, которое с драматической внезапностью обрывается перед самой кульминацией.
И в то же время стихотворение в целом предстает как один образ — здесь можно было бы вспомнить творчество Гойи. Четыре существительных и ничего больше, кроме языкового плюса, их связывающего, — вот — самодостаточные кубики, из которых складывается стихотворение, а последовательный ввод всех возможных сочетаний из трех элементов нейтрализует движение стиха. Все отношения имеют при этом равные веса. Нам показывают состояние бытия, тогда как становление не выходит за пределы стихотворения, выступающего тут как предъявитель.
В своей более радикальной форме конкретное поэтическое произведение упраздняет определенное отношение между элементами с помощью двух основных механизмов. Связки редуцируются или элиминируются, и поэт остается наедине со «словами, твердыми и блестящими, как бриллианты. Слово — это элемент. Слово— это материал. Слово — это объект» [3, с. 32]. Во-вторых, стихотворение либо исключает сразу всю последовательность, либо оказывает ей противодействие с помощью других последовательностей, причем настолько эффективное, что ни одна из них не доминирует над другой.
Вспомним о нескольких ключевых словах, указывающих на пейзаж — небо, озеро, лодка, дерево,— рассыпанных по странице. Пытаясь как-то организовать материал, мозг читателя способен создать цельную картину, которая будет обладать основным свойством всякого зрительно воспринимаемого объекта: все ее элементы будут объединены в пределах одного организованного целого, а все отношения будут соединены в одном изображении. Есть стихотворения, которые тоже нацелены на такой изобразительный отклик, но их немного. Большинство же стихотворений воспроизводит сеть отношений.
Сеть отношений — это то, чем пользуется разум при рассуждении. Отношения не объединяются так, как это бывает при восприятии; чтобы отношения можно было прочесть, сеть отношений Должна быть организована или иерархически, или последовательно. Примером сети может служить схема организации какого-либо вида деятельности или предприятия; другой пример Дает математическое доказательство. Чтобы сеть отношений мож-
111
но было использовать в рассуждении, ее следует присоединить к однозначному предложению. Если имеются противоречия, то необходима дополнительная работа по их устранению.
Конкретная поэзия использует сети, но не прибегает к логическим критериям общезначимости; она созревает на неразрешимых множествах отношений.
ich
denke ist
etwas
-Рис. 9. Стихотворение Макса Бензе
Здесь читателю брошен как бы вызов, который можно принять двумя способами. Как человек, склонный к рассуждениям, он может попытаться разобрать весь этот материал и построить рассуждение, которое можно было бы читать, как «Рассуждения о методе» Декарта. Фактически Бензе приготовил для читателя сырой материал, похожий на тот, с каким, вероятно, столкнулся Декарт, когда приступил к своим размышлениям. Но читатель может рассматривать те же четыре слова и как стихотворение. В таком случае предложение, появившееся в списке последним, замыкает стихотворение, а сами неразрешимые пропозиции передают всю меру сложности осознанного опыта, богатства человеческой мысли и, быть может, безнадежности попытки извлечь до конца какой-либо смысл вообще. Здесь уже происходит не процесс думания в интеллектуальном смысле этого слова, а, скорее, временное прекращение этого процесса. Размышление здесь
112
рассматривается перцептуально, как если бы это была игра грозовых туч или поднимающаяся стая птиц.
Если представить язык как сырой материал для интеллектуальной деятельности, то можно рискнуть предложить разгадку того, почему в наши дни средства конкретной поэзии стали привлекать к себе внимание. Конкретная поэзия — это не просто освобождение от языка, переход от вербального к визуальному. Если бы это было так, слова бы выбрасывались совсем; средства визуальных искусств допускают обращение к ним с вопросами. В конкретной поэзии особенно соблазнительной выглядит возможность отказаться от секвенциального размышления, а вместо этого использовать ее вербальные механизмы, предварительно вычленив их.
Нерасположенность к последовательному размышлению нельзя выразить средствами живописи и скульптуры, поскольку во вневременном образе отсутствуют утверждения о таких последовательностях. Изобразительное мышление имеет дело с событиями и фактами в их одновременности. Как я уже упоминал выше, все отношения в целостном изображении объединяются. Это означает, что все влияния и воздействия на данный элемент уравновешиваются, с тем чтобы можно было дать однозначное визуальное определение этого элемента. Если форма А отодвинута влево некоторой силой В, а вправо — силой С, то ее динамичный характер выражен в результирующей данных векторов. В законченном произведении визуального искусства нет неразрешимой омонимии векторов-составляющих. Она поглощается в результате их взаимодействия.
Иное дело, когда образ составлен из словесного материала. Даже если целая последовательность будет ослаблена или вообще отсутствовать, слова поступают маленькими последовательностями или создают такие последовательности путем соположения. Ich etwas неизбежно перерабатывается в я есть что-то, я имею или я хочу что-то, есть я или есть что-то. Как показало стихотворение Бензе, такого рода словесные пучки сохраняют свою индивидуальную автономию, когда свободно входят в возможные и одновременно меняющиеся комбинации.
Является ли конкретная поэзия одной из антагонистических реакций нашего поколения на тот тип рассуждений, который оперирует с линейными связями и, главным образом, с каузальными последовательностями понятий? По самой своей природе каузальная цепочка не имеет ни начала ни конца, простираясь назад еще до начала повествования, и проходит его до конца с целью предсказать будущее. Применительно к историям болезней или к прогнозам она позволяет получить ответы на вопросы: «Как это произошло?»; «Что могло бы случиться вместо это-
8 Заказ № 1942 ИЗ
го?» и «Что можно сделать с будущим?». Исследование причинных связей предполагает активный, деятельный подход, оно опирается на веру в способность человека понимать и разрешать проблемы. Причинный анализ лежит в основе романа, драмы, повествовательного кино, а также историй и клиник болезней и научных описаний различных процессов. Его отвергают те, кто не доверяет психоанализу, в основном являющемуся линейной процедурой, либо политическим доктринам, объясняющим механизмы исторических и юридических изменений.
Можно допустить, что неподвижные образы также способны отображать связи и каузальные отношения, однако они не содержат связей, выходящих за пределы описываемой ситуации. Художник изображает Юдифь, отрубающую голову Олоферну, но этим он вовсе не провоцирует зрителя, чтобы тот задал вопрос, что же толкнуло ее на это и что произойдет в результате этого поступка. Свойство линейности последовательности не составляет характерной особенности изобразительного средства. Последнее имеет дело с состояниями бытия и обращает становление в бытие.
Располагая слова и фразы в несеквенциальных образах, конкретная поэзия демонстрирует неубедительность логических доводов. Она предполагает, что в них нет ни начала, ни конца, что нельзя полностью избавиться от противоречий. В хорошем настроении она проявляет терпимость к многочисленным отношениям и не без одобрения относится к двусмысленностям и противоречиям как к крупицам опыта, порожденного мыслящим разумом.
В то же время следует признать, что для противодействуя силам аналитического разума необходимо установить пределы мотивированности произведений искусства и вместе с тем определить глубину проникновения в них. Если считать, что произведение искусства должно быть отражением человека, то оно должно обнять все возможные мыслительные способности человеческого разума. Во всяком тщательно выписанном изображении это требование выполнено. Рассматривая визуальные искусства, переходя к ним от Шекспира или Данте, можно на какое-то мгновение поразиться безмолвию Гамлета на картине Делакруа или отсутствию словесного диалога между его Данте и Вергилием в челне Харона. Если, однако, забыть об абсурдном требовании, что картина должна говорить, то ясно видно, что образы показывают нам различные характеры и их взаимные связи с не меньшей проницательностью, чем это делает литература.
Традиционная поэзия отличается своей интеллектуальной мощью и требует от читателей серьезных умственных усилий. В стихотворениях Леопарди, Дикинсон или Йетса можно найти не только выражение определенных настроений, но и порази-
114
тельные по силе и глубине мысли. Конкретная поэзия, напротив, нередко представляется нам слишком простой. Мы даже сравниваем ее с «примитивным искусством», которое наблюдаем в последние годы в живописи и скульптуре, и утверждаем, что хотя возвращение непосредственно к самим основам поэзии в известных исторических ситуациях может оказаться целительным, следует остерегаться приписывать статус поэзии таким уменьшенным ее вариантам. Последнее утверждение не так-то легко опровергнуть. Кроме того, за ним скрывается определенные стилистические тенденции, едва различимые в настоящее время, но, возможно, крайне значимые для будущего. Я имею в виду фундаментальное различие между тем, что я буду называть memento, и тем, что я назову message, т. е. между напоминанием и сообщением.
Николя Пуссен оставил нам картину с изображением пастухов, на фоне полей, которые видят надгробие с надписью «Et in Arcadia ego». Как информация о том, что смерть может настичь тебя повсюду, данная надпись довольно банальна. Как стихотворение, состоящее из четырех слов, она также мало что значит. Однако надпись на камне не является единицей сообщения. Это memento, напоминание. Надпись не ищет нас, чтобы передать нам информацию, напротив, мы обнаруживаем ее сами как связанную с определенным местом и неотделимую от фона. Если по своей природе мы склонны к размышлениям, то она приведет нас в состояние медитации, т. е. к психической углубленности и сосредоточенности, какая бывает, когда мы разглядываем неясное нам вещество или незнакомый предмет под микроскопом с целью его изучения.
На ранних стадиях развития многих культур произведения визуальных искусств обычно проявляли себя как напоминания. Мы имеем в виду, в частности, и памятники, для которых значимыми оказываются места, где они стоят. Очевидным примером памятников являются статуи. Фрески, барельефы, гобелены — это неотъемлемые признаки пещер, гробниц, замков и церквей, для которых они предназначаются. Мы изучаем их так же, как растения или скалы на пейзаже. Как напоминания эти искусственно созданные предметы обладают особыми отличительными свойствами. По ряду причин они имеют ограниченную сферу применимости, часто оказываются чрезвычайно простыми. Поскольку эти предметы являются частью более широкого контекста, их функция ограничена отдельным высказыванием — они лишь добавляют элемент к чему-то еще, что передается вместе с окружающей обстановкой. Больше того, поскольку они относятся к средствам, обслуживающим такие виды человеческой деятельности, как работа и отдых, путешествия и посещения, доставка и обес-
115
печение, богослужение, они приспособлены к человеку действующему. Они должны быть сравнительно лаконичными, адаптироваться к появлению или исчезновению потребителя.
Между колоссальными головами на острове Пасхи и мраморными изваяниями на Бернине с изображениями Дафны, которую преследует Аполлон, есть разница не только в историческом плане, но и в функциях. Гигантские каменные головы служат напоминаниями — по всей видимости, объектами поклонения, целью паломничества, знаками божества. Фигуры из Бернины, выставленные в музее, передают сообщение. Они не связаны с конкретным местом или с определенной общественной функцией, а являются нам как некие утверждения о природе человека, и как таковые должны вести с нами беседу. Они заслуживают, чтобы на них было обращено внимание, и, будучи изолированными во времени и в пространстве, должны рассказать нам законченную историю. Если ритуальные каменные головы служат поводом к размышлению, то эти фигуры сами передают мысли.
Аналогичное различие имеет место и для языковых текстов. Надпись на границе — это напоминание. Она принадлежит к той же совокупности знаков, что и слова ВЫХОД или ТИХО. В зависимости от своей конкретной функции языковые mementos дают инструкции, предписывают тип поведения, облегчают ориентацию. Они также должны быть краткими и выразительными, способными будить мысли. Как от бронзового креста на алтаре не требуется, чтобы он соперничал по сложности с распятием на полотнах Рубенса, а, скорее, чтобы он служил фокусом и стимулом к религиозным мыслям, побуждаемым у верующих, точно так же орнаментальные цитаты из Корана на стенах мечетей являются напоминаниями, отличающимися принципиально от исследований, содержавшихся в философских трактатах. В алтаре дзен-буддистского храма можно увидеть свиток, на котором помещена одна большая идеограмма, а перед ней цветок в вазе. Слова и цветок побуждают нас к размышлениям.
Такого рода напоминания явно отличаются от того, что я называю сообщениями. Типичным примером словесного сообщения является высланное по почте письмо. Оно доходит до адресата и требует к себе внимания. Оно ведет с адресатом беседу, и можно ожидать, что оно оправдывает затраченное на него время. Письмо сообщает нам информацию и передает мысли. Развитие книги от древних каменных дощечек до современных экземпляров в бумажных переплетах — это путь от напоминания к сообщению. Нельзя приблизиться к дощечкам с возгласом: «Удиви меня!»,— но с этим возгласом вполне законно совратиться к роману-бестселлеру.
Одно из намерений конкретной поэзии — повести за собой всю
116
поэзию от сообщения к напоминанию, высвободив ее из пут книг. Поэтический сборник играет роль сообщения подобно письму, роману или трактату, однако делает это менее открыто. Он приходит к читателю словно из ниоткуда, стремясь снабдить его мыслями и чувствами. Это, в свою очередь, предполагает определенные затраты с его стороны и отношение к нему как бы со стороны оценивающего потребителя, который, если придерживается советов Бертольда Брехта, откидывается при встрече с книгой на спинку кресла и закуривает сигару. Если же подойти с такими мерками к обычной конкретной поэзии, то стихотворение нельзя определить как сообщение. Мы должны осознать, что цель конкретного стихотворения — стать напоминанием.
Ярким подтверждением этой мысли может служить стихотворение Рональда Джонсона.
eyeleveleye
Рис. 10. Стихотворение Рональда Джонсона. eyeleveleye1
Стихотворение внешне выглядит как одно слово, но если читать €го особым конвенциональным способом, то обнаруживается, что перед нами три слова, идущие друг за другом, причем первое одинаковое с третьим. Eyelevel напоминает читателю, как тот рассматривает ряд букв, a leveleye может вызвать какие-то неясные ассоциации. Повторение слова eye (глаз) предполагает, что мы отбросим последовательность чтения слева направо и воспримем рисунок в его симметрии. Такая перестройка структуры немедленно отплачивает нам тем, что мы начинаем видеть два глаза, глядящие на нас как бы с чьего-то лица. Настроившись на восприятие визуальной модели, мы обнаруживаем регулярное переплетение шести букв е, связывающих строчку, и Два направленных вниз столбика букв у вместе с уравновешивающими их поднимающимися вверх шестами букв l. В окружении двух l появляются слова eve (канун) и Eve (Ева), стройная симметрия которых подчеркивается всем рисунком стиха, и мы уже готовы начать размышлять над отношениями между Eye и Eve (глаз и Ева). Вся конструкция лучше всего работает, когда мозг наш еще полусонный, когда он может впустить к себе всякого, кто проходит мимо. В этом случае он застигнут врасплох или, то крайней мере, находится в достаточно расслабленном состоянии, чтобы не испортить дрейфующие образы. Очевидно, что настроение, вызываемое этим стихотворением,—
1 Глазуровеньглаз — англ.
117
это не то повышенное возбуждение, к которому мы обычно приходим при встрече с хорошей поэзией. Скорее, оно напоминает отрешенное наблюдение за плавно движущимися по небу облаками. И действительно, контекст, наиболее благоприятный для конкретного стихотворения, лежит за пределами книги, где-то в реальной действительности. Там на него обратит внимание какой-нибудь не слишком погруженный в себя прохожий, на какое-то мгновение остановится, задумается, увидев необычное явление, и уйдет в размышлениях, поверхностных или глубоких. Мэри Эллен Солт цитирует Фердинанда Кривета, который говорит о созданных им стихотворениях, что они, по крайней мере, на первый взгляд, имеют «знаковую природу, какую имеют все тексты публичного характера вроде объявлений на улицах, вывешенных на специальных досках, на фасадах домов, на щитах для афиш, вывесках, грузовиках, на дорогах и на подъездных путях и т. д.» [3, с. 20].
Авторы стихотворений, относящихся к конкретной поэзии, объединяются со своими собратьями-художниками в желании избежать общественной изоляции, преследующей оба эти искусства по пятам еще с той поры, когда они снялись с якорей времен эпохи Возрождения и стали кочевать с места на место, никуда конкретно не направляющиеся, нигде не находящие себе пристанище, готовые за определенную плату лечь в постель с каждым. Подобно тому, как художник пытается избавиться от пустых стен в галерее или музее, поэт стремится освободиться от чар ко всему безразличной чистой бумаги и мечтает увидеть свою работу в виде указателя, афиши или иконы в повседневной суете торговли, в паломничестве и на отдыхе. И как скульпторы следуют своим путем, пропахивая борозды в пустыне или заворачивая здания в лепные покрывала, которые выглядят несерьезно, если рассматривать их отдельно от зданий, так и поэты надеются, что в восстановленном контексте созданные ими словесные образы обретут красноречие, достойное поставленных целей.1. Lichtenberg, Georg Christoph. «Sudelbucher. Section J. 289». In Wolfgand Promies, ed., Schriften und Briefe, von. 1. Munich. Holle, 1968.
2. Mon, Franz. Schrift und Bild. Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden. 1963.
3. Solt, Mary Ellen. Concrete Poetry: A World View. Bloomington: Indiana University Press, 1971.
4. Williams, Emmett, ed. An Anthology of Concrete Poetry. New York: Something Else Press, 1967.
