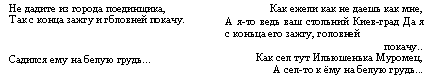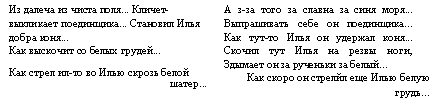Библиотека
Теология
Конфессии
Иностранные языки
Другие проекты
|
Ваш комментарий о книге
Путилов Б. Эпическое сказительство: Типология и этническая специфика
Часть третья: Былинные сказители
Введение в проблематику
Русское сказительство (в первую очередь, конечно, севернорусское) представляет благодарнейший материал для исследователя — прежде всего благодаря обилию и, в целом, надежности записей и разнообразию сведений и наблюдений, широкому охвату былинных регионов и беспримерному по числу включению в поле зрения собирателей певцов — разного пола и возраста и, что немаловажно, нескольких поколений. К этому стоит добавить, что интересующими нас проблемами русские собиратели занялись очень рано, собственно — с момента открытия Исландии русского эпоса, как не без оснований стали называть эпосоведы Русский Север. В течение примерно 90 лет былинные очаги подвергались периодическим наездам специалистов, индивидуальным и коллективным обследованиям, некоторые места — по нескольку раз. Итоги этой работы не раз подводились, и я отсылаю читателя к соответствующим трудам [Былины Севера, 1938, т.1; 1951, т.2; Астахова, 1966; Дмитриева, 1975; Чичеров, 1982].
Сейчас, когда живая былинная традиция на Севере полностью угасла, а, с другой стороны, новые идеи и методические подходы к проблемам сказительства обострили наш интерес и внимание к накопленному наукой материалу, мы по-особому ощущаем не только исключительную ценность всего собранного нашими предшественниками, но и невосполнимые пробелы в их работе. Меньше всего желая упрекнуть их, я тем не менее вынужден обратить внимание на те слабые места, которые ныне препятствуют удовлетворительному разрешению ряда сложных вопросов. Отнюдь не по вине собирателей они всегда были плохо вооружены технически. «Ручной» способ фиксации текстов преобладал вплоть до последних лет экспедиционной работы. Как не позавидовать М. Пэрри, которому — в пору, когда еще не было магнитофонов, — удалось оснастить свою экспедицию аппаратами, способными записать полностью пространные тексты эпических песен!
Другой общий недостаток полевых исследований — отсутствие стационарных наблюдений. Собиратели оставались в одном населенном пункте ровно столько, сколько им нужно было, чтобы произвести записи былин и как бы исчерпать репертуар его и его сказителей. При этом, как правило, оставались в стороне тексты, которые могли «повторять» уже записанные ранее, т.е. отсекался ценнейший с сегодняшней точки зрения материал для сравнительного анализа вариантов.
Сами собиратели с простодушием неофитов зафиксировали случаи своих просчетов. П.Н. Рыбникову довелось по нескольку раз прослушать одни и те же былины от Т.Г. Рябинина и К.И. Романова, но, вместо того чтобы сделать полные повторные записи, он лишь «пополнял пропуски и окончательно устанавливал (! — Б.П.) текст петых ими вариантов» [Песни, собранные..., 1989, т.1, с.61]. Итак, вместо бесценного набора вариантов — сводный текст, реально не исполнявшийся.
А.Ф. Гильфердинг в ряде случаев воздерживался от записи текстов, если считал, что они сходны с ранее им записанными от других сказителей [Онежские былины..., 1951, т.З, с.306 и
др.].
А.Д. Григорьев упустил случай дать нам тексты двух сказителей-братьев, научившихся былинам у своего отца, и сопоставить их [Архангельские былины..., 1910, т.Ш, с. 113]. Еще просчет: Ив.А. Чупов получил былины от дяди Ив.Ег. Чупова, но Григорьев записал от каждого из них разные былины [Там же, с.448]. Узнав, что ряд былин Аграфена Васильевна получила «из тех же источников, что и сестра ее Анна», от которой записи были сделаны раньше, Григорьев не стал больше записывать [Там же, с. 174].
Н. Ончуков, «за неимением времени», записывал былины, которых у него «пока еще не было», т.е. новые сюжеты — несмотря на то, что слышал «старины, уже записанные», которые новые сказители знали лучше [Печорские былины, 1904,
- XXXTV—XXXV]. «Погоня» за все «новыми» текстами и «другими» певцами оборачивалась невниманием к ценнейшим фактам. Сосредоточение работы на записи текстов происходило за счет сокращения внимания к контексту жизни эпоса. Как это ни странно, но собиратели, положившие начало интересу к личности сказителя и затем поддерживавшие этот интерес, в практической полевой работе ограничивались довольно-таки поверхностным знакомством с биографиями сказителей и особенностями их искусства. И здесь опять-таки нельзя не вспомнить экспедиций М. Пэрри и А. Лорда, которые ценили беседы с собирателями, информацию о них, интервью с ними не меньше, чем записанные от них тексты, что отразилось и на объеме тех и других материалов.
Повторных записей от одного сказителя, записей одних сюжетов от учителя и ученика, от нескольких учеников одного «учителя» в общем фонде записанных былинных текстов набирается некоторое число, но такие записи — результат скорее счастливых случаев, чем направленных устремлений и специальной программы. И, наконец, еще одно обстоятельство, повлиявшее на состояние материалов по русскому сказительству: это, особенно в советское время, — идеологический уклон в подходах собирателей и исследователей, преимущественное внимание к содержательной стороне сказительской материи за счет того, что условно можно считать техническими аспектами. Рано уверовав в творческий характер сказительского искусства, эпосоведы стали искать это творческое начало в индивидуальных моментах, в работе сказителей над содержанием былин, в сознательном отношении их к эпическому наследию, оставив вне поля зрения многие нюансы, характерные исключительно для искусства эпических сказителей.
Можем ли мы сегодня, в условиях угасшей живой традиции, попытаться заново поставить вопросы* занимающие современное эпосоведение, осуществить проверку новых идей относительно сказительства и применительно к былинным певцам?
Собственно, ответ на этот вопрос частично уже получен: исследования последних лет продвинули нас по этому пути. Задача заключается в том, чтобы найти ключ к анализу на современном уровне тех материалов, которые оставили нам предшественники. Кроме того, неоценимую помощь нам окажет историко-типологический подход к былинным сказителям. До недавнего времени их искусство мало соотносилось с опытом сказительства других этнических культур. Можно не сомневаться, что былинное сказительство — это специфический вариант общемирового художественного явления традиционной культуры.
Разумеется, надо извлечь максимум рационального из наблюдений собирателей.
Повторные записи былин все же в нашем распоряжении есть, и ценность их не вызывает сомнений. Есть также некоторое число записей от «учителей» и «учеников». Наши эпосоведы обратили внимание на этот материал уже в 30-е гг. Правда, они сосредоточились на выяснении того, изменяет ли и что изменяет сказитель с течением времени в сюжетике, мотивах, образах своих былин, в конструктивных их элементах, в объеме изложения. Исходя из наблюдений над содержательными и композиционными сторонами текстов, исследователи предлагали свою классификацию сказителей. На этих принципах, в частности, основано выделение трех типов сказителей А.М. Астаховой (см. выше). Когда она писала о сказителях, которые «совершенно или почти точно» перенимали и передавали былины [Былины Севера, 1938, т.1, с.71], или о сказителях, которые вырабатывали собственный постоянный текст и сохраняли его неизменным [Там же, с.75—81], то она опиралась на анализ содержательной стороны текстов. В сущности, та же сторона интересовала ее и при характеристике типа импровизатора [Там же, с.82—85]. Это относится к большинству исследований 30—60-х гг. В них заметны поиски сознательной работы сказителей над текстами, преувеличение творческого, идейного начала в этой работе, влияния социальной среды и исторических перемен. В этом смысле показательна монография AiM. Астаховой, вобравшая огромный материал собственных наблюдений выдающейся собирательницы эпоса [Астахова, 1948].
При некоторых оттенках во взглядах и несовпадениях в выводах разных авторов вырисовываются контуры общей концепции, согласно которой былинный сказитель предстает творческой личностью, не ограничивающейся простой передачей некогда усвоенного текста, но обладавшей известной свободой в варьировании его, внесении новых элементов, подсказываемых подчас жизненным опытом и вкусами певца.
Уже П.Н. Рыбников заметил «при ближайшем знакомстве с певцами», «что они не всегда поют былины совершенно одинаково». Он же высказал первые соображения о причинах такого явления. Кроме одной из них — внешнего порядка («не сразу вспоминают иную былину») — другие ведут нас в сферы специфики сказительского искусства. Сказители часто «знают» одну и ту же былину от нескольких учителей в близких вариантах, и певец «поет один раз былину по одному варианту, в другой раз по другому». «У каждого сказителя заметно его личное влияние на склад былины: он вносит в нее свой характер, любимые слова, поговорки». «Порою скажется и влияние настроения минуты» [Песни, собранные..., 1989, т.1, с.72—78]. Эти беглые замечания собирателя сопровождались и подтверждались примерами тем более ценными для нас, что они были взяты из путевых записей, впоследствии утраченных.
Собиратели конца XIX—XX вв. обогатили и расширили фонд наблюдений, относившихся к варьированию текстов, и придали им принципиальную направленность («русская школа» фольклористики).
А.Ф. Гильфердинг отметил, с одной стороны, склонность сказителей к сочинительству, «участие личного творчества», пропуски при исполнении и т.д., с другой — их убеждение, что они ничего не меняют и поют точно так, как пели их учителя [Онежские былины..., 1949, т.1, с.52]. Он пришел к заключению, что участие «личной стихии» «чрезвычайно велико, гораздо больше, чем можно бы предполагать» [Там же, с.56—57]. Одно замечание, брошенное вскользь., обрело свою истинную значимость чуть ли не столетием позже: сличая былины двух сказителей, у которых был общий учитель, Гильфердинг обнаружил, что «они весьма сходны по содержанию, но значитель-
но разнятся в подробностях изложения и оборотах речи» [Там же, с.57]. .
А.Ф. Гильфердингу принадлежит принципиальное соображение о границах творческой свободы былинного певца, ставшее на долгие годы бесспорным: речь идет о разделении былинного текста на «места типические» и «переходные» (см. выше, с. 144—145).
Один из самых активных и вдумчивых собирателей русского эпоса А.Д. Григорьев оставил множество интересных наблюдений и ценных соображений. Уже в начале своей работы он столкнулся с «затруднением»: при записи «с голоса» чтобы не пропустить ничего, он полагал желательным «заставлять певцов вторично пропевать былину от начала до конца», но оказалось, что «большинство певцов при каждом новом пении изменяет текст, так что исправлять пропетое в первый раз по поющемуся второй раз нельзя» [Архангельские былины..., 1904, т.1, c.XXVII]. Казалось бы, это обстоятельство должно было побудить А. Григорьева производить полные повторные записи, однако он этого не делал, будучи увлечен желанием возможно более полного охвата записями региона и исчерпывающей фиксации репертуара певцов. Повторные же прослушивания он использовал в экспериментальных целях, всякий раз обнаруживая расхождения в текстах и пытаясь их как-то классифицировать и осмыслить. Ряд разночтений А. Григорьев был склонен относить на счет «путаницы», «забывчивости», нетвердого знания [Архангельские былины..., 1910, т.Ш, с.1, 7; 1939, т.Н, с.101]. Приведу здесь любопытную характеристику исполнительской манеры поморской сказительницы Екатерины Александровны (фамилии собиратель не сохранил): «Я вывел заключение, что она слыхала много старин, владеет их складом, но так как давно не певала, то позабыла их и дополняет их из собственной фантазии. Она настолько освоилась со складом старин, что так и кажется, что она может сочинить и пропеть о чем угодно. При пении у нее не было твердо установленных стихов; если попросишь ее повторить пропетое раньше, то изменилась не только форма, но и содержание» [Архангельские былины..., 1904, т.1, с.138—139]. Как видим, манеру сказительницы А. Григорьев склонен рассматривать как некоторое отклонение от нормы.
Во многих случаях собиратель, прося повторить даже какой-нибудь стих или отдельное слово, получал вариант — с
поправками или иным смыслом [Архангельские былины..., 1910, т.Ш, с.5, 248, 268, 278, 445, 567].
Наблюдения другого известного собирателя А. Маркова ограничивались обнаружением «разночтений», преимущественно в именах, топонимах [Беломорские былины..., 1901, с.28, 83, 102, 201, 204, 236, 249, 295]. От полной фиксации повторных текстов он, подобно своим предшественникам, воздерживался.
Н. Ончуков обнаруживал «личное начало» преимущественно, когда видел, что певцы «путают, перевирают, извращают», привносят вместо «подлинных слышанных от стариков выражений» «много своего», «присочиняют» «во время самого пения» [Печорские былины, 1904, с.ХХХН, 4, 184].
Отметим один из ранних опытов теоретического осмысления данных, представленных первыми собирателями. Н. Васильев проанализировал многочисленные записи былин от
В.П. Щеголенка, особенное внимание обратив на повторные записи былин, сделанные в разное время разными собирателями. Он выявил многочисленные разночтения в текстах, систематизировал их по их характеру и пришел к заключению, что «переработка былин Щеголенком происходила, по-видимому, не при усвоении репертуара, а с течением времени при дальнейших исполнениях» [Васильев, 1907, с. 194].
Новый подход к проблеме личного варьирования обозначился в 20-е гг., в связи с крупными экспедициями по следам прежних собирателей. Встречи со сказителями, наследовавшими эпическую традицию певцов, от которых записывали П. Рыбников и А. Гильфердинг, А. Григорьев, А. Марков и Н. Ончуков, естественно, должны были на первый план выдвинуть проблему отношения сказителей к усвоенным текстам и связанную с нею заманчивую задачу сопоставления «учеников» и «учителей» на разных уровнях сказительского искусства. Работа собирателей новой генерации получила выход в фундаментальных собраниях былин [Былины Севера, 1938, т.1;1951, т.2; Онежские былины, 1948], в ряде антологий, в статьях и монографиях. К сожалению, при всей значительности результатов мы не можем сегодня не посетовать на отсутствие тщательно разработанных программ, вопросников, новой полевой методики — всего того, что так выгодно отличает экспедиции М. Пэрри—А. Лорда.
Главное внимание было уделено «личному началу», которое, с одной стороны, преувеличивалось, а с другой — виделось преимущественно в сферах содержательных и поэтических. Вопросы обучения, эпической памяти, «техники» воспроизведения, исполнительских аспектов оставались в тени. Как это ни печально, но исследователи, теоретически обобщая свой собирательский опыт, в основном опирались на тексты, полевые наблюдения оказались слишком поверхностными, чтобы послужить материалом для построения принципиальных концепций.
Увы — время упущено, русским эпосоведам уже не придется работать в поле, и наша задача, с одной стороны, снова и снова использовать для исследований богатейший текстовой материал, а с другой — заново прочитать все, что зафиксировали собиратели во время своих поездок.
ВАРЬИРОВАНИЕ БЫЛИННЫХ ТЕКСТОВ И ЭПИЧЕСКИЙ СТИХ
1
Начнем с текстов, записанных в разное время от представителей знаменитой эпической фамилии Рябининых. По характеристике А.М. Астаховой, они относились к категории сказителей, которые не только удерживают в сохранности композицию былины, помнят точный порядок эпизодов, но почти дословно воспроизводят большинство эпизодов, а то и всей былины в целом [Былины Севера, 1938, т.1, с.71—74]. Правда, она же отмечает разные случаи вариативности, но особого значения им не придает, поскольку случаи эти почти не касаются содержания былин. Позднее она вносит в эту характеристику некоторые уточнения, в частности — обнаруживает у И.Т. Ря- бинина «момент импровизации, неразрывно связанный с характером самого былинного жанра и проявляющийся при исполнении», но «лишь в варьировании очень незначительных деталей, причем в большинстве случаев в пределах перенятого им от отца уже готового запаса этих деталей» [Былины Ивана Герасимовича..., 1948, с.23—24].
Обратимся к некоторым текстам.
На основании имеющихся уже в науке наблюдений можно сделать вывод, что былины Т.Г. Рябинина, первого в династии сказителей, не имели канонических, постоянных текстов, а это означает, что сын его, Иван Трофимович, так же как и следующие за ним певцы, не могли не заметить многочисленных видоизменений, каким подвергались былинные тексты при различных исполнениях, но конечно же, не могли и «заучить» их. Всем рябининским текстам присущи действительно значительная степень постоянства, но и варьирование внутри отдельных строк, фразеологических единиц и структурно-смысловых соединений, хотя у разных представителей этой традиции этот принцип проявляется с разной силой.
Приведу лишь один пример — несколько стихов из былины «Вольга и Микула», дающей яркий пример устойчивой семейной традиции.
Т.Г. Рябинин
В записи Рыбникова:
Жаловал его родный дядюшка,
Ласковый Владимир стольно-киевский,
Тремя городамы со крестьянамы
[Песни, собранные..., 1989, т.1,
N° 3, стихи 17—19].
В записи А.Ф. Гильфердинга:
Был у него родной дядюшка,
Славный князь Владымир стольно-киевской,
Жаловал его трима городама всё крестьянамы
[Онежские былины..,, 1950, т.2,
№ 73, стихи 17—19].
В другой записи А.Ф. Гильфердинга:
Дядюшка его родный, славный князь Владимир стольно-киевской Жалует его-то трима городама всё крестьянамы
[Там же, с.749, стихи 17—18].
И.Т. Рябинин
В записи Е. Ляцкого:
Ево-то был родный дядюшка
Ласков князь-то Владымер стольнё-киёвской,
Жаловал ёво трема городама,
Трема городама всё крестьяновскими
[Ляцкий, Аренский, 1894, с. 136, стихи 15—18]. ,
И.Г. Рябинин-Андреев
Егб-то был рбдный дядюшка
Ласков князь Владимир стольне-киевской.
Жаловал яго трём [а] городами со крестьяновцами
[Былины Ивана Герасимовича..., 1948, с.115, стихи 14-16].
П.И. Рябинин-Андреев
В записи экспедиции братьев Соколовых:
Был у Вольги да родной дядюшка Ласков князь Владимир стольнё-киевский;
Дарил он ему всего три города
[Онежские былины, 1948, № 95, стихи 11—13].
В записи М. Каминской:
Был Вольге да родной дядюшка Ласков князь Владимир стольно-киевский Дарил ему три города крестьянскиих
[Былины Севера, 1951, т.2, JSfe 130, стихи 14—16].
В записи А.М. Астаховой:
Был у Вольги да родной дядюшка,
Ласков князь Владимир стольни-киевский,
А дарил он яму да три города,
Три города да всё крестьяновцы
[Там же, JNfe 130а, стихи 14—17].
В собственной записи сказителя:
Был у Вольги да родный дядюшка,
Ласков князь Владимир стольнокиевской,
Жаловал ему да он три города,
А три города да все крестьяновцы
[Былины П.И. Рябинина-Андреева, 1939, N° 1, стихи 11-14].
Что бы ни говорилось о близости, содержательной идентичности приведенных стихов, остается несомненным, что они не были плодом однократного заучивания, но каждый раз при исполнении словно бы возникали заново, и сказители не затруднялись пропевать их в том или ином варианте. Сказать же, какие из них «основные», «исходные», а какие — «вторичные», мы не можем. Они равноцены и абсолютно единообразны по смыслу. В цитированных пассажах выделяются элементы, части фраз, стихи или части стихов, которые могут быть (следуя Пэрри—Лорду) названы формулами или формульными выражениями.
К числу типовых для былин, употребляемых в ряде сюжетов, относится стих, посвященный князю Владимиру. Он подвергается наименьшему варьированию, но все же «ласковый» меняется на «славный» и на усеченную форму «ласков». Судя по другим сюжетам, записанным от Т.Г. Рябинина, наиболее частыми были у него формы: «Владимир-князь да стольнокиевский», просто «князь Владимир», «Владимир-князь». Каждая из этих форм употреблялась в соответствующем метрическом положении — с добавлением одного-двух слов или в составе фразы. Выбор формы целиком зависел от метрической ситуации, отсюда — необходимость выбора и варьирование.
В былинах севернорусских сказителей — множество подобных формул, состоящих из нескольких слов и имеющих применение в разных сюжетах: одни из них употребляются преимущественно или исключительно в именительном падеже («сорок тысячей», «пированье почестей пир», «столованье почестей стол», «бочечки красна золота» и т.д.), другие — чаще в косвенных падежах («во городе во Киеве», «за дубовый стол», «быть убитому», «коня богатырского» и т.п.); есть формулы, легко поддающиеся переменам в падежах («сила богатырская», «земля сорочинская», «добрый конь» — «на добром кони» — «у добра коня»). Ценность таких формул определяется именно возможностями их включения в метрическое пространство стиха и более или менее свободного варьирования, подсказываемого конструктивными целями. Заметим, что большинство таких кратких формул структурно соответствует, условно говоря, дактило-хореическому строению былинного стиха: метрически они основаны либо на дактиле, либо на сочетании дактиля с хореем. Преобладают формулы, содержащие от 4 до 8 слогов — по-видимому, такое число наиболее «удобно» для не очень затруднительного построения стиха в процессе исполнения, когда певец не может задерживаться и искать слова.
Характер формул имеют многие имена, прозвища, топонимы: Илья Муромец сын Иванович, Добрынюшка Никитьевич, Дюк Степанович, Опракса королевична, собака Калин-царь, Батыга Батыгович; река Смородина, горы Сорочинские, Киев- град, Золота Орда, Литва поганая и т.д. Многочисленные варианты к именам позволяют без труда включать их в движение стиха.
Структурно соответствуют формулам и глаголы: «соби- ралися», «соезжалися», «напечатано», «повырубить» и т.д. Широкое употребление глаголов с дополнительными приставками, не характерное в обыденной речи, способствует превращению их в удобные в метрическом смысле формулы. То же самое можно сказать и о распространенном в былинах применении уменьшительных и ласкательных форм: увеличение слогов позволяет строить стих с соответствующими словами. Сочетания глаголов с существительными также дает аналогичный эффект: «как сокол летит», «опочив держать». Тем же целям служат сочетания существительных с прилагательными: «дубовый стол», «зелено вино», «красно солнышко». Большинство таких сочетаний обнаруживает метрическую «приспособляемость» в конструкциях с косвенными падежами, множественным числом и разными временами. В затруднительных случаях певцы прибегали к подключению незначащих частичек и дополнительных предлогов: «К молоду Луки да й ко Петровичу»; «Ко тому столу да ко дубовому»; «Из какой земли да из какой орды» и т.п.
Сказитель, разумеется, держит в памяти множество таких кратких формул — подобно тому, как всякий человек «помнит» множество устойчивых сочетаний слов и выражений в естественном языке. Но сказитель должен уметь этими формулами оперировать, когда он пропевает стих за стихом, ставить их в смысловой и метрический контекст, а для этого он должен владеть формульной грамматикой, которую, конечно же, не заучить просто так.
С точки зрения техники создания (или воссоздания) былинного стиха определяющими и узловыми выступают заключительные структурные элементы. В первой части стиха сказитель еще может как-то «извернуться», не соблюсти его мерного движения, но заключительная часть должна быть в этом смысле безупречной. Поэтому в концах стихов мы находим, как правило, краткие формулы. В текстах Т.Г. Рябинина, например, абсолютное большинство окончаний стихов носит характер формул. Певец как бы ориентируется на эти заключительные формулы, соотносит с ними предшествующее развитие стиха; его задача в иных случаях — выстроить стих, окончание которого почти задано.
Можно наблюдать, что у разных сказителей формульная отшлифованность неодинакова. В частности, она меняется в разных позициях стиха. У Т.Г. Рябинина решительно преобладают формулы на всем протяжении стиха. Он обладал великим искусством знания и подбора формул, их варьирования, отчасти — создания новых по знакомым моделям и их объединения в стих. Эта способность придает рябинскому стиху классическую законченность, чеканность и гармоничность. Было немало певцов, которые не хуже (а иногда и лучше) знали сюжеты былин и понимали общие законы композиции, но немногие из них могли сравниться с Рябининым в мастерстве построения стиха и в связывании стихов в одно целое.
Тексты Т.Г. Рябинина подсказывают нам способность сказителей не только варьировать внутри формул, но и предлагать «альтернативные формулы».
Примеры на первый тип варьирования:
Он бил коня по тучной бедры [Песни, собранные..., 1989, т.1, с.96].
А он бил коня а по крутым ребрам [Онежские былины..., 1950, т.2, с.12].
Ко стремени булатнему прикована [Песни, собранные..., 1989, т.1, с.97].
Да у правого стремени прикована [Онежские былины..., 1950, т.2, с.12].
Хватайте-тко рогатины звериные [Песни, собранные..., 1989, т.1, с.97].
Вы берите-тко рогатины звериным [Онежские былины..., 1950, т.2, с.13].
Примеры на второй тип:
Потоптал и поколол сипу в скором времени [Песни, собранные..., 1989, т.1, с.95].
А й побил он эту силу всю великую [Онежские былины..., 1950, т.2, с.Ю].
Серый зверь тут не прорыскиват,
Черный ворон не пролетыват [Песни, собранные..., 1989, т.1, с.95].
Да й пехотою никто да не прохаживал,
На добром кони да не проезживал [Онежские былины..., 1950, т.2, с.11].
Аналогичную картину мы наблюдаем, сопоставляя тексты разных Рябининых.
У Т.Г. Рябинина:
А он мог бы постоять один за веру за отечество,
Мог бы постоять один за Киев-град,
Мог бы постоять один за церкви за соборный,
Мог бы поберечь он князя да Владимира,
Мог бы поберечь Опраксу-королевичну
[Онежские былины..., 1950, т.2, №75].
У И.Г. Рябинина-Андреева:
Постоять бы мог за веру й за отечество,
Сохранить бы мог да й стольней Киев-град,
А сберечь бы мог бы церквы божии,
А сберечь бы мог князя Владимира
' [Былины Ивана Герасимовича...,
1948, № 1].
За вычетом стиха об Опраксе-королевичне оба пассажа по содержанию идентичны, сохраняется порядок стихов, но каждый стих строится по-своему. Сказители словно бы избрали свой способ их построения. Обратим внимание на начала стихов: у Т.Г. конструкция пассажа определяется формулой «А он мог бы постоять/поберечь», у И.Г. — ее инверсией: «Постоять/сохранить/сберечь бы мог». Замечу здесь кстати, что у П.И. Рябинина-Андреева соответственно — «Постоял бы». Смею предположить, что различия определил первый стих, сложившийся у каждого из певцов вполне спонтанно. Зато последующие начала уже ориентированы на этот первый стих, он задал организацию ряда стихов, связанных данной микротемой. Группы стихов этого рода существуют не изолированно один от другого, но структурно и лексически соотносятся, организуются. Группы эти различны по объему, часто это — два-три стиха, но может быть и значительно больше. В этих случаях возникает опасность монотонности, и здесь важно вовремя остановиться, ощутить исчерпанность конструкции, искусно завершить ее и перейти к новому построению. Искусство сказителя обнаруживается, в частности, в умении избежать излишних повторений, завершить данную конструкцию и обеспечить гармоничный или, напротив, резко контрастирующий переход к новой.
Выразительный художественный эффект достигается, когда повторяющаяся формула слегка варьируется, применяется, так сказать, по принципу контрапункта. Вот стихи, встретившиеся у Г. Крюкова, большого мастера былинного сказывания:
Он проехал-то лесы тёмные,
А проехал-то он да грези чёрные,
А доехал до той жа речиньки Смородинки
[Беломорские былины..., 1901,
№ 68].
Певец предельно экономными средствами предупредил возникновение стилистической монотонности и придал этой группе стихов полную выразительную и структурную законченность.
Нередко сказители варьируют именно последнюю строку в группе стихов — это как бы знак того, что данный пассаж завершен.
Рожки у тура да в золоти,
Ножки у тура да в серебри,
Шерсть на туру да рыжа бархата
[Онежские былины..., 1949, т.1, с.38].
Я далек от мысли видеть во всех этих поэтических тонкостях сознательную работу сказителей. Конечно же, мы имеем дело с вполне бессознательными творческими актами. Это как бы сам эпос творит себя, стремясь к совершенству организации. Но делать это он способен лишь через певцов, а эти последние — лишь благодаря выучке, освоению традиции, эпическому знанию и мастерству исполнительской культуры.
Одним из показателей уровня сказителя в организации былинного стиха следует считать его умение обойтись лишь самым необходимым минимумом незначимых слов — частиц, дополнительных предлогов и др. Готовность некоторых певцов без должного чувства меры заполнять метрические пустоты такими словами свидетельствует то ли о невнимании их к стиху как основе воздвигаемого ими здания, то ли просто о небрежности, а то и о неумении (не научились!). Во многих других отношениях их былины могут достигать высокого художественного уровня, но забитый назначащими словами стих проигрывает в поэтической силе, в звучании, в гармоничности пассажей. Нередко это связано с недостаточным искусством во владении формульным языком и в варьировании формул.
Сравним в этом плане двух выдающихся мастеров — Т. Г. Рябинина и Г.А. Якушова. Для сравнения я взял тексты былины «Илья Муромец и Калин-царь» в пределах первых 150 стихов [Онежские былины..., 1950, т.2, № 75; Онежские былины, 1948, № 5]. У Рябинина мною отмечено около 90 случаев употребления частиц и предлогов, в том числе случаев повторения предлогов «во», «за» и подобных — около 25, постпозитивных частиц «-ка» или «-то» — около 35, частицы «да» — около 35. Незначимость их здесь весьма относительна, употребление их не перегружает стих, они почти незаметны и не производят впечатления лишних.
У Якушова мы наблюдаем другую картину. Аналогичных случаев употребления частиц и предлогов у него около 135, т.е. в полтора раза больше. Характерен и состав этих случаев: повторения предлогов — около 10, постпозитивных частиц «-ка», «-то» — около 30, частицы «да» — свыше 40; остальные случаи падают на «ведь» (35), «как» (13), «еще» (4) и т.п. Другими словами, в тексте Якушова на каждые пять строк — примерно два дополнительных словечка, которые ничего не значат. «Лишние» слова перенасыщают якушовский текст, утяжеляют его, придают ему некоторую нескладность. Это особенно ощутимо в сравнении с классическим рябининским стихом, в котором нет ничего лишнего, все отточено и стройно.
Формульные картины имеют свойство расширяться и сокращаться, их развертывание и свертывание влияет, конечно, на полноту, поэтическую насыщенность описаний, но мало отражается на собственно содержательной стороне повествования. Отсюда — возможности их варьирования. Полнота или краткость зависят, конечно, от такого постоянного фактора, как эпическое знание певцов и их одаренность, их приверженность к эпической обрядности, но они в данном тексте могут быть и просто случайными проявлениями настроения певца в момент исполнения, нечаянной забывчивости и т.д.
Вот два пассажа, явно изоморфных по своему содержанию, но различающихся по объему, по полноте реализации.
У М.С. Мякишева:
А завернула бы Добрынюшку в портяноцьку,
А завертела бы в рукавьцик миткйлинный,
А кинула б Добрынюшку во морюшко А тем синим горюцим бы камешком!
А я лежал бы тут удйлой во синём мори,
А я лежал бы тут заместо горюцего бы камешка.
А що ветрушки бы на Добрынюшку не веяли,
Много людушки окол Добрынюшки не смиялись
[Онежские былины, 1948, № 45]г
У М.М. Фадеевой:
А завертела бы Добрынюшку в рукавчик меткалиныи, А еще бросила б во славное во морюшко Тем синим горючим бы камешком,
А чтоб ветры над Добрынюшку не веяли,
А чтоб многи люди над Добрынюшкой не смёялиси
[Там же, № 49].
2
В русском сказительском творчестве может быть выявлена и другая художественная линия в принципах воссоздания былинного стиха. Рядом с певцами, дорожившими эпической формульностью и опиравшимися на формулы как на основной строительный материал, мы видим певцов, которые в гораздо меньшей степени связаны традиционным формульным арсеналом, но строят стих более независимо и свободно, опираясь непосредственно на опыт живой разговорной речи и перекладывая ее в песенные формы. Традиционность стиха у таких певцов кажущаяся — на самом деле здесь налицо отход от обычных приемов былинного повествования. Вовсе не обязательно эта тенденция обнаруживается у певцов, склонных к сочинительству, они заметны и у тех, кто не стремится к сколько-нибудь серьезному пере- иначиванию содержания былин. Почему и когда возникает такой тип воссоздания былинного стиха у сказителей, я не берусь ответить. Ограничимся наблюдениями над этим явлением.
Даже у сказителей, для которых характерно последовательное применение формульного стиха, показательны нарушения этого принципа. Иногда их можно счесть случайными, проскочившими в данном исполнении: по тем или иным причинам сказитель неловко построил стих, и в следующий раз это не повторится. Иногда же складывается впечатление, что сказители никак не могут найти законченное формульное построение для какого-либо выражения/стиха или небольшой группы связанных по смыслу стихов, и конструктивная шероховатость упорно появляется всякий раз в одном и том же месте. Так, почти прозаической фразой начинается у Т. Г. Рябинина рассказ о встрече Микулы с мужиками:
Да недавно был я в городи, третьяго дни
[Онежские былины..., 1950, т.2,
№ 73].
Кажется, ни один из потомков Т.Г. так и не справился с этим местом, пытаясь по-своему изложить его. У П.И. Рябини- на — целых три варианта: «Был я в Крестьяновце третьего дни» [Онежские былины, 1948, № 95]; «Третьево дни в городах я был» [Былины Севера, 1951, т.2, № 130а]; «А недавно в этих городах я был» [Там же, № 130]. Кирик Гаврилович Рябинин этот вариант былины не пел, а сказывал; характерно, что соответствующее место он изложил совершенной прозой: «Он согласился: “Поедемте”» [Там же, с. 140]. Петр Васильевич Рябинин построил стих так: «Был я третьего дни за получкою» [Онежские былины, 1948, № 101].
Видимо, стилистические неудачи тоже могут передаваться по традиции.
Характерно что в ряде вариантов сюжета у разных певцов это место вообще отсутствует, певцы как бы обходят его, не находя хороших способов его изложения. Лучшее разрешение задачи — вполне в духе формульного стиха — принадлежит, на мой взгляд, И. Гришину:
Я недавно был ведь я во Курцовце,
Я недавно был ведь я в Ореховце,
Был-то ведь я там третьего дни
[Онежские былины..., 1949, т,1,
№ 32].
Для некоторых певцов характерны, наряду с широким использованием формул, нередкие отступления в сторону более свободного построения стихов.
К таким певцам я отнес бы Никифора Прохорова и его ученика Г.А. Якушова. Вот как изображает, например, Н. Прохоров один из эпизодов поединка Ильи Муромца с сыном:
Ильюшенька да был он свычен-то,
А свычен-то Ильюшенька, догадлив он —
Как скоро обскочил на окол ёго,
Ударил-то ведь в сутыч да во шею-то,
Молода ударил он Соловника
[Онежские былины..., 1949, т.1,
№ 48].
Здесь встречаются стихи формульные (или стремящиеся быть формульными) и «свободные» словосочетания. Ритмическая система строк не выдержана, она выявляется лишь в пении (между прочим, А. Гильфердинг отмечал, что Прохоров не соблюдал строго размера, но это скрадывалось у него благодаря плавному пению [Там же, с.411—412]).
Г.А. Якушов то же место сумел изложить в формульной манере, придав ему хорошо организованный вид:
А Ильюшенька да очень пбверток,
А ведь был Сбловник а не поверток,
А ударил-то ведь Соловника в затылочок,
А упал Соловников да на сыру землю
[Онежские былины, 1948, № 4].
Бесформульный стих неорганизован либо организован неряшливо; он лишен опорных элементов и потому производит впечатление аморфного. При чтении трудно представить, как этот стих можно спеть. Тем не менее он поется, и аморфность скрадывается. Другая особенность аморфного стиха, вытекающая из первой, — это его прозаичность. Прозаический его характер особенно ощутим рядом с хорошо организованным, основанным на формулах традиционным стихом.
В былине «Илья Муромец и Калин-царь» Г.А. Якушова татарский царь дает послу ярлык с требованием к князю приготовить все в Киеве «на моё видь свадьбу великую». Явившись к Владимиру, посол предъявляет ярлык и добавляет «пословесно»:
Про мою видь свадьбу великую —
Хочет он у вас пожениться тут,
Как он сгт живйго мужа отлучить жену
[Онежские былины, 1948, № 5].
Вторая из процитированных строк вполне прозаична, в третьей формула не очень хорошо выдержана. Но окружение этих стихов организовано в традиционной манере.
Можно заметить, что прозаизированные стихи у сказителей, владеющих формульным языком достаточно хорошо, появляются чаще всего, когда они не знают (или забыли, не смогли подобрать в момент пропевания стиха) подходящих формул, либо когда перед ними возникают новые, не вполне обычные для знакомой им традиции задачи повествования и изображения, хотя бы и вполне частного порядка.
Н.А. Ремизов вводит в былину об исцелении Ильи Муромца следующий эпизод:
Как прикатился тут Ильюша к окошечку,
Как видит-то, идет кто-то по дороге,
Ну как бытго калики перехожие.
Идут прямо к его-то домику И на тыи-ты ступени метовыи,
Ко тому ли кольцу золоченому
[Былины Пудожского края, 1941,
№ 31].
Лишь на первый взгляд кажется, что задача у певца — описать, как Илья видит приближающихся к его дому калик, — элементарна. В действительности она не проста, поскольку в традиции этот момент описан предельно кратко. А.М. Пашкова находит формульную передачу эпизода:
Оставался дома один Илья,
Он сидит себе да богу молитце,
Слышит, вороты тесовы отворяются,
По крылецьку ступеньки подгибаются,
Двери дубовы распахнулися,
Тут три странничка да появлялися
[Там же, № 3].
Ремизов оказался в плену коллизии между ограниченным запасом соответствующих формул и желанием изобразить конкретную ситуацию. Результатом этого явились стихи, в которых формульные элементы явно перекрыты прозаизированными.
Такого рода ситуации у певцов типа Якушова или Ремизова в конце концов разрешаются их возвращением к формульной поэтике. Формулы для них — как и для большинства сказителей — спасительные и единственно надежные ориентиры; они воздвигают стих за стихом сложное эпическое сооружение, переходя от одних формул к другим и лишь время от времени заполняя некоторые пробелы между ними прозаизированными стихами.
С точки зрения мастерства сложения таких стихов большой интерес представляет творчество Аграфены Крюковой. Она хорошо владела формульным стилем и знала массу формул. В ее былинах немало блестящих образцов искусной организации отдельных стихов и их соединений. А. Крюкова «видела» очень хорошо былинную строку как целое и выстраивала первую ее
половину с точным учетом ритмических возможностей второй половины, что избавляло ее от необходимости прибегать к «лишним» словам в объеме большем, чем следовало. Характерным для А. Крюковой было тяготение к варьированию формул внутри параллельных стихов, что предохраняло их от налета монотонности и придавало их течению стилистическую гибкость и даже некоторую изощренность.
Тут уехало двенадцать всё богйтырей:
В перьву голову уехал Самсон Сильния,
Во-вторых-то тут уехал Пересмяка со племянницьком,
Тут ишше-то как уехал всё Цюрило свет всё Пленковиць,
Да ишше-то тут уехал всё Добрынюшка Никитиць млад,
Да ишше да тут уехал всё ведь Олёшенька Поповиць млад,
Да ишше-то тут уехал всё Дунаюшко Ивановиць;
Тут уехали богатыри — не всё ведь мы их знам...
[Беломорские былины..., 1901, № 2].
А. Крюкова любила создавать крепко связанные пары стихов, нередко при этом в стилистических целях идя на удвоение стихов с помощью повторения начальных или конечных формул.
Только есь у мня, у старого всё у седатого,
Щьчо три есь у мня три стрелки всё каленыя
[Там же].
Структура второго стиха в таких парах определялась обычно структурой первого, но сказительница разнообразила конструкцию, варьируя элементы стиха.
Цють не пал-то доброй молодець с добра коня,
Цють не выпал из седелышка да кипарисного
[Там же, N9 1].
Говорил скорб таки да реци горькия,
Реци горьки говорил да всё обидилсэ
[Там же, № 2].
Как тонко совершалось образование парных стихов, как гармонично взаимодействуют пары, как беспрестанно меняется или варьирует конструкция стихов и как при всем том сказительница все время держит перед собою основное движение сюжета, — можно проследить хотя бы на начальных 20 строках былины «Илья Муромец и Бадан» [Там же, № 3].
При всем том Крюкову как мастера стиха нельзя включить в один ряд с Рябиниными или с ее дядей Г.Л. Крюковым, ко-
торые довольно строго придерживались формульного стиля. В ее былинах свободный бесформульный стих занимает довольно значительное место. Создается впечатление, что А. Крюковой не хватает того запаса формул, которым она владеет, и творческая работа в пределах формульного фонда ее не удовлетворяет. В ряде случаев прозаизированные стихи свидетельствуют
о неудаче, которую сказительница понесла в момент построения стиха (или пары стихов).
Говорят шьто мне, могуци-ти сказали мне,
Мне сказали-то многи могуция богатыри
[Там же, N° 1].
Первая строка здесь решительно не состоялась: в сущности, она лишняя, и появление ее, Скорее всего, можно объяснить склонностью певицы к удвоению стихов. Нескладных стихов у А. Крюковой немало, и в ряде случаев они говорят о том, как трудно было ей перелить в бесформульную былинную строку живую речь.
Мы как шьчо будём теперь да надь им делать-то
[Там же].
Новотворчество А. Крюковой в области былинного стиха отмечено не одними неудачами, оно требует более сложной оценки. Сказительница искала дорогу в былинный стих живой речи с ее обычными, лишенными образности формами, с ее неорганизованностью и стилистической пестротой. При этом ее поиск был отмечен печатью литературности, когда она вносила элементы, не свойственные в равной степени ни разговорной речи, ни традиционной былинной стилистике. Наконец, А. Крюкова своеобразно разрушала каноны формульного стиха тем, что включала элементы традиционных формул, традиционно былинные слова в новое стилистическое окружение, нагружала их новыми конструктивными задачами.
Он кинал-то ей в погрёб во глубокой-от.
Хто не толкует — повалитьце, тот и сам упал;
Там наставлёны у ей да всё востры копья,
Нагублёно там ведь много душ напрасных-то:
Из худых-то есь родов, много хороших есь;
Хто ведь мимо попадет эти копья, дак тот живой сидит;
Хто на копье-то попадет, дак тот приконьчитца
[Там же].
Стихи первый и третий из процитированных исполнены в формульной манере, в характерных диалектных редакциях. В других стихах формулы перебиваются и как бы расплываются в неформульном окружении. «Тот и сам упал», «дак тот живой сидит» — эти выражения созданы по формульным моделям, но вставлены в фразы прозаизированного типа. Стих второй почти непонятен по смыслу, настолько несовершенна его конструкция. Характерно, что даже здесь А. Крюковой удается создать пары стихов, конструктивная связь которых вполне ощутима (стихи третий—четвертый и шестой—седьмой).
Манера А. Крюковой подготавливает в некоторых отношениях новотворчество ее дочери Марфы Крюковой. Однако мать и дочь хотя и связаны традициями одной беломорской «школы» и семейной преемственностью, а также схожими тенденциями в отношении к построению стиха, принадлежат — с точки зрения технических принципов воссоздания былинных текстов — не к одному типу сказительства.
3
Для характеристики стиля М.С. Крюковой много дает сравнение ранних записей, сделанных А. Марковым, с позднейшими, произведенными спустя почти 40 лет. А. Марков замечал, что Марфа плохо выдерживает стих, что: и напев и текст у нее страдают какой-то неустойчивостью, что во время записи она, казалось, сочиняла былину, укладывая текст в первый попавшийся напев [Материалы, собранные..., 1906, с. 16]. Неровность и неоднородность стиля очень характерны для молодой Марфы и дают себя знать при сопоставлении разных сюжетов. С одной стороны, текст былины «Алеша освобождает из плена сестру» построен в основном на формульных стихах, которые довольно хорошо организованы. М. Крюкова здесь удачно, а в отдельных местах просто превосходно, конструирует ряды стихов, не особенно увлекаясь их распространением. С другой стороны, в былине «Соловей Соловьевич» много стихов прозаизированных, сочетания стихов певице не удаются, да как будто она к этому и не особенно стремится. Стихи в былине живут каждый как бы сам по себе, будучи связаны смыслом, последовательностью повествования, но не конструктивно. В результате складывается впечатление стилистической дисгармоничности, даже расхлябанности.
Яркие импровизационные тенденции, проявившиеся в творчестве М. Крюковой, не привели к определенной победе одной из этих манер. Во многих поздних ее былинах возобладал своеобразный синтез: М. Крюкова научилась легко, без видимых затруднений не только бесконечно варьировать формулы, запас которых у нее исключительно велик, но и, опираясь на традиционные принципы былинной стилистики, переплавлять в формулы (или их подобия) элементы свободной живой речи. Другими словами, она приблизила прозаизированный стих к формульному, придала ему более организованные стилистические черты. В то же время и «чистый» прозаизированный стих в ее практике остался. При всей легкости, с какой М. Крюкова конструировала былинную строку, она вынуждена была прибегать постоянно к помощи «лишних» слов (см. об этом у Р. Липец: [Былины М. Крюковой, 1939, с.36]).
Характерная особенность техники М. Крюковой состояла в ее умении подбирать варианты/синонимы формул не только для одного стиха, но для целых пассажей. Благодаря этому она легко варьировала повторявшиеся эпизоды в былине, излагая одну и ту же ситуацию по-разному, почти не повторяясь. Перед нами две записи былины о спасении Алешей сестры. Поездка богатыря в записи ранней изложена в трех стихах:
Поехал Алеша во те степи Саратоськи Тима лесами всё дремучима,
Тима садами всё зеленыма
[Беломорские былины..., 1901,
JSI8 64].
То же место в позднейшей записи:
И вот поехал тогда Алешенька,
Во леса поехал, в степи Саратовськи.
Ехал с утра ведь Алеша вплоть до вецера;
Красно солнышко на небишке то скрылосе,
От и скрылось оно же, закатилосе,
И свётла месиця Олёши не видать нигде,
Светлы звездочки Олёши не показалисе
[Былины М. Крюковой, 1939,
№ 32].
Как видим, картина расцвечена, дополнена. В другом месте той же былины хорошо видно, как, варьируя формулы, сказительница вносит новые элементы.
Шьчо не белая-то лебедь, лебедь кикала,
Красна девушка в полону да слёзно плакала,
Плакучйсь-то ведь она да выговаривала
[Беломорские былины..., 1901,
№ 64].
Как не беленька лебедушка-то кикала,
Как не сера-та утича крыцела,
Как девиця-та, лебедушка слезно плакала,
Как красы своей девиця дивовалася
[Былины М. Крюковой, 1939,
№ 32].
Как известно, былины поздней Крюковой сильно разрастались в объеме. Однако можно заметить, что при этом многие места по сравнению с ранними записями излагались более сжато, нередко вовсе опускались. В частности, таким сокращениям подвергались бесформульные стихи и слабо организованные конструкции. Стремление к лучшей организации отдельных стихов и особенно их сочетаний безусловно составляло особую заботу сказительницы по мере ее творческого развития. Иногда это приводило к некоторому увеличению числа стихов.
В ранней записи Маркова изложение — почти прозаическое:
Он допросил-то всех его придворников,
Чтобы дбложили об его приходи князю Владимеру,
Ему льзя ли да зайти в его палаты княженеськии.
Не ослышались князя придворники,
Оне пошли скоро-то князю всё долбжили О ево да всё приходе-то
[Беломорские былины..., 1901, №65].
То же место — в записи 1938 г.
Говорил он тут да таковы слова,
Таковы слова, таки речи:
«А и донесите обо мне же всё А ишшо ласкову-то князю всё Владимеру;
А мне-ка льзя ли всё зайти к нему,
А и вот зайти к нему да повидатисе?
Мне-ка хоцце повидатисе,
Повидацьце, поздороватьце,
Поздороватьце да познакомитьсе».
А и доносили слуги княженеськие
[Былины М. Крюковой, 1939,
№ 47].
Соединение стихов по принципу «перехода», которое мы видим в последних стихах, очень характерно для зрелой М. Крюковой. Вообще же справедливо наблюдение, что формульный стих делает повествование не только организованнее, «поэтичнее», но и пространнее. Это не значит — многословнее. Как раз бесформульный стих отличает многословие.
В записи А. Маркова:
Я не знаю, чем буду тебя да всё отдаривать;
Как мне тибя красным золотом дарить, да у тибя-то своего да очунь Много-то;
Подарю я тебе разьве, в подарок тибе всё поздравствую —
В каждом городе торгуй без дани-пошлине,
Хоть во Киеве торгуй, хоть во Черни-горе;
Везьде тебе всё воля вольняя.
Хоть ты где-ка хошь, туда и населяйся-ко,
Ты бери себе в подарок города, которы подо мной-ту есь
[Беломорские былины..., 1901,
№ 65].
Здесь формульный стих перебивается бесформульным, и заметно, что в некоторых местах М. Крюкова плохо «видит» стих, не рассчитывает его протяженности, то удлиняет строку, производя какие-то операции с напевом, то выстраивает дополнительные стихи.
Впрочем, и в поздние годы М. Крюкова не всегда справлялась с конструктивными задачами и подчас неожиданно отступала от удачных находок прежних лет.
Хоть она будёт не дужона тибе, красна девиця,
Хоть прельстисьсе на ей да всё обзарисьсе,
Но не будет она тебе да молодой жоной
[Беломорские былины..., 1901,
№ 64, стихи 67—69].
Ну прельстишьса ты, Олёшенька Попович млад,
Ты прельстишьсе-от, Олёша, на красоту ее,
На красоту-от ее, чудну красоту девицью-ту,
Только тибе же вот судьба твоя с ней не будёт-то,
Вот не будёт с ей судьба, вы разойдетесе
[Былины М. Крюковой, 1939,
№ 32, стихи 167-171].
Приведу еще из поздних записей стихи столь явно прозаизированные, что их естественно цитировать в сплошной строке: «По дороге в один город зашол же он»; «А Салавей-от сын Ёудимировиць перед ней да все стоял же он, как лакей да будто ее же он»; «Некому будёт неизвестно же, тайность дб-гроба закрыта же» [БылиныМ. Крюковой, 1939, № 47].
Для понимания техники М. Крюковой-сказительницы особый интерес представляют былины, сочиненные ею: это переложения сказок, повестей, литературных исторических сюжетов, а также «новины» — личный отклик на события современности. В былине «Солдат и охотник царя Петра Олексееви- ча» М. Крюкова пользуется традиционными формулами и сама создает формульные стихи по известным моделям. Однако собственно формульных стихов здесь мало, к тому же они оказываются в окружении стихов прозаизированных. Основная масса стихов создается в манере свободного, мало организованного повествования. Очевидно, прозаизированные стихи легко давались сказительнице, и она как-то ухитрялась укладывать их в напев [Былины М.С. Крюковой, 1941, № 121].
К «новинам» приходится относиться с крайней осторожностью, так как они проходили редактирование, при котором стихи обрабатывались, композиция упорядочивалась и т.д. По- видимому, без существенных вмешательств «со стороны» остался автобиографический сказ М. Крюковой [Марфа Крюкова, 1940]. Формулы здесь употребляются преимущественно в конце стихов: «из Нова-града», «с новгородскою», «к морю к Белому», «поить-кормить», «по сторонушкам», «про могучих киевских богатырей», «в каменну Москву» и т.п. Наряду с традиционными она создает свои формулы, которые могут легко укладываться в привычную традицию: «малой девочкой», «на сенокосьице», «прежно времечко». Подчас это позволяет ей создавать пассажи, хорошо связанные и звучащие по-эпически выразительно.
Я сидела под окошечком, расплакалась,
Я качала, сидела, зыбку-то ведь брателка,
Я у зыбочки сидела-то, прирасплакалась,
Вот в окошечко глядела, прирастужилась
[Марфа Крюкова, 1940, с.79].
Вообще же преобладание прозаизированного стиха вполне объяснимо характером «новин»: сказительнице приходится
иметь дело с материалами жизни и понятиями, находящимися за пределами традиционного эпического содержания:
Сегодня пароход пришел же из Архангельска,
Семинаристов-то пришло же к нам да человек ведь семь же их.
А пришел сюда молодой студент,
Молодой студент да из Москвы же он,
Что со мной на пароходе познакомился.
Но когда студент начинает расспрашивать, кто знает «пропеваньица», идут стихи, как бы цитаты из привычных былинных формул. Стоит, пожалуй, удивляться тому, как сказительница укладывает всю эту прагматику в былинный напев. Бесформульный стих в большинстве своем — стих натуралистический, служащий задачам изложения какой-либо «эмпирики», не типичной для эпоса. Его появление на редких участках традиционного былинного нарратива было естественным и допустимым. Его распространение в «новинах» и в разного рода былинных переложениях текстов других жанров противоречило принципам эпической эстетики и, по существу, не имело перспективы.
4
Оснащенные методикой анализа былинного стиха и опытом наблюдений над текстами севернорусских сказителей, обратимся к текстам старинной (XVIII в.) записи в знаменитом Сборнике Кирши Данилова. Точность записи здесь, конечно, относительна. В частности, что для нас немаловажно, неясно, насколько полно и точно фиксировался стих с такими его особенностями, как «лишние» слова и добавочные частицы: они попадаются здесь значительно реже, чем в записях собирателей XIX—XX вв., но все лее присутствуют, что само по себе свидетельствует о записи «с голоса», хотя, скорее всего, и непоследовательной.
Внимательное изучение текстов Кирши Данилова показывает, что — при неравноценности их со стороны художественной разработки сюжетов (схематическое изложение, неудачные контаминации, пропуски и др.) — техника эпического стиха во многих из них превосходна, мастерство сочетаний стихов стоит на очень высоком уровне, отработка формульной стилистики образцовая. Есть былины, от начала до конца выдержанные в манере формульного стиха, без малейшей шероховатости. Оср- бо надо отметить искусство певцов (или певца?) в конструировании больших «периодов»; организация стиха в них заслуживает специального рассмотрения. Приведу в качестве примера описание корабля Соловья Будимировича:
Хорошо корабли изукрашены,
Один корабль полутче всех.
У того было у сокола у корабля Вместо очей было вставлено По дорогу каменю по яхонту;
Вместо бровей было прибивано По черному соболю якутскому,
И якутскому ведь сибирскому;
Вместо уса было воткнуто Два острыя ножика булатныя;
Вместо ушей было воткнуто Два вострй копья мурзамёцкия;
И два горносталя повешены,
И два горносталя, два зимния.
У тово было сокола у кйрабля Вместо гривы прибивано Две лисицы бурнастыя;
Вместо хвоста повешено На том было соколе-кбрабле Два медведя белыя заморский.
Нос, корма — по-туриному,
Бока взведены по-звериному
[Древние российские..., 1977, с.9—10].
Вся конструкция выдержана на повторении безличных форм с «было» плюс глагол, всякий раз новый. Опорное слово «вместо» повторяется строго регулярно, при этом монотонность снимается перебоем внутри периода — «У того было сокола у карабля...». Гармоничность целого подчеркнута завершающими двумя стихами иной конструкции.
Еще более сложная и изощренная конструкция создана певцом в описании коня и доспехов Дюка Степановича. Пространный период в 61 стих четко членится на ряд фразовых микроконструкций, внутренне организованных темой стоимости каждого доспеха й установкой на «вопрос-ответ» («Почему цена»... — «потому цена...»), при этом «вопрос» не задается (кроме двух случаев), но подразумевается, поскольку «ответы» проходят через весь период. При этом певец начисто избегает механических повторов, всякий раз варьируя форму ответа [Древние российские..., 1977, с.20—21]. Описание доспехов и
оружия встречается еще в былине «Михайла Казаринов», и очевидно, что в принципе — это то же описание, построенное в той же манере, но по исполнению не совпадающее с первым и свидетельствующее о возможностях варьирования, которыми обладал и блестяще пользовался неизвестный певец [Там же, с.110].
Наряду с этим в былинах Сборника Кирши Данилова часты прозаизмы, встречаются неловкие, плохо построенные изложения, моментами стих просто теряется. Бесформульный стих может ворваться в мерное течение эпического повествования:
Сходни бросали на крут бережек,
Товарную пошлину в таможне платили,
Со всех кораблей семь тысячей
[Там же, с. 10].
Во славном было во Нове-граде Грамоты люди шли прочитали Те ерлыки скоропищеты
[Там же, с.49].
Заметим, что прозаизированные стихи попадают на те места, которые для эпоса оказываются новыми («таможня», «грамоты люди»), другими словами — они вынужденны (нет подходящих формул).
Иногда целые небольшие периоды излагаются как бы прозой, хотя, вероятно, они также пропевались.
Покушавши, ласковой Владимир-князь Велел дом его переписывать.
И был в том дому сутки четверо.
А и дом его крестьянской переписывали —
Бумаги не стало,
То оттеля Дюк Степанович Повел князя Владимира Со всеми гостьми и со всеми людьми Ко своей сударыни-матушки
[Там же, с.23]
Сказители, известные нам по разным записям, без труда справлялись с этим описанием, находили формулы (см., напр.: Онежские былины..., 1950, т.2, с. 139). Очевидно, что певец, которого мы процитировали, не знал или не мог вспомнить в момент исполнения соответствующих формул.
Как и в севернорусских былинах, в Сборнике Кирши Данилова встречаются случаи варьирования «общйх мест» в пределах одного текста. Они могли вызываться разными причинами, в том числе — и чисто техническими обстоятельствами «данного» исполнения. Можно допустить, что именно этот последний мотив лежит в основании следующего примера.
Есть ли в Киеве таков человек,
Кто б похвалился на три ста жеребцов,
На три ста жеребцов и на три жеребца похваленыя:
Сив жеребец да кологрив жеребец,
И которой полонен Воронко во Большой орде,
Полонил Илья Муромец сын Иванович Как у молода Тугарина Змеевича,
Из Киева бежать до Чернигова Два девяноста-то мерных верст Промеж обедней и заутренею?
Это — слова князя Владимира, вызывающего состязаться в скачках. Вызов принимает Иван Гостиный сын:
«Я похвалюсь на три ста жеребцов И на три жеребца похваленыя:
А сив жеребец да кологрив жеребец,
Да третей жеребец — полонян Воронко,
Да которой полонян во Большой орде,
Полонил Илья Муромец сын Иванович Как у молода Тугарина Змеевича,
Ехать дорога не ближняя —
И скакать из Киева до Чернигова Два девяноста-то мерных верст Промежу обедни и заутрени,
Ускоки давать кониныя,
Что выметывать роздолья широкия.
А бьюсь я, Иван, о велик заклад:
Не о сте рублях, не о тысячу —
О своей буйной голове!»
[Там же, с.39—40].
Наряду с чисто «техническими», исполнительскими разночтениями внутри стихов и двустиший, второй пассаж содержит более существенные, содержательные дополнения и уточнения: предстает картина будущей скачки и конкретизируются условия поединка. В целом второй пассаж оказывается полнее и изложен лучше. Но в конкретном исполнё-
нии могло быть и обратное. Между прочим, пассаж повторяется в третий раз, когда Иван плачется своему коню:
«А пробил я, Иван, буйну голову свою Со тобою, добрым конем,
Бился с князем о велик заклад,
А не о сте рублях, не о тысячу, —
Бился с ним о сте тысячей,
Захвастался на три ста жеребцов,
А на три жеребца похваленыя:
Сив жеребец да кологрив жеребец,
И третей жеребец полонян Воронко, —
Бегати-скакать на добрых на конях,
Из Киева скакать до Чернигова Промежу обедни, заутрени,
Ускоки давать кониныя,
Что выметывать роздолья широкия»
[Там же, с.40].
5
После всех наших наблюдений и соображений относительно «техники» былинного стиха есть смысл вернуться к вопросу
о различиях между местами «типическими» и «переходными», как назвал их некогда А.Ф. Гильфердинг. Первое, что возникает, — это несогласие с тем, что, по Гильфердингу, одни стихи в былинах всякий раз воссоздаются певцами заново, более или менее варьируются от исполнения к исполнению, а другие — будучи затвержены певцами — переносятся ими из былины в былину и почти механически повторяются.
Мы уже могли убедиться, что так называемые «типические места в былинах одного и того же сказителя вовсе не представляют собой буквально воспроизводимых копий с одного клише.
Концепция А.Ф. Гильфердинга стала расшатываться некоторое время назад. П.Д. Ухов, специально занимавшийся проблемой устойчивости «типических» мест, пришел к заключению, что сказители при усвоении былин не заучивали «типические» места, но в результате частого повторения былин «обычно вырабатывали твердый текст типических формул», и эти формулы «для Данного сказителя являются специфическими, отличными от формул Других сказителей» [Ухов, 1957, с.136]. «Типические места одного сказителя, как правило, приобретают строго чеканное словесное оформление» [Ухов, 1956, с.98]. Правда, ученый признает, что «в зависимости от содержания, формулы одного сказителя в различных сюжетах могут видоизменяться» [Ухов, 1957, с. 137], «некоторая вариация их может определяться потребностями сюжета» [Ухов, 1956, с.98]. Сразу же напрашиваются замечания. Во-первых, дело не только и не столько в «потребностях сюжета», сколько в самой технике запоминания и технике воспроизведения «типических» мест. Во- вторых, сопоставляя формулы, П.Д. Ухов недооценил масштабы и значение «вариаций» и «разногласий» и явно расширительно применил понятие «буквальные совпадения». Характерный пример: П.Д. Ухов приводит «типическое» место — картину княжеского пира — у Т.Г. Рябинина. В текстах № 80 и 81 он находит совпадения буквальные, в текстах № 76, 84 отмечает «некоторые разногласия». Вот эти места.
Славныя Владимир стольне-киевской Собирал-то он славный почестей пир На многих князей он и бояров,
Славных сильныих могучиих богатырей
[Онежские былины..., 1950, т.2,
№ 76].
А й во славноём во городи во Киеви Славного у князя Владимира,
Заводился у князя почестей пир
[Там же, N° 84].
А Владымир князь стольнё-киевской Заводил почестей пир да й пированьице,
На многих князей да на всих бояров,
На всих сильныих, русьскиих могучих на богатырей Ай на славных поляниц да на удалыих
[Там же, N° 80].
А Владымир князь стольне-киевской Заводил он почестей пир пированьицо А й на всех-то на князей, на бояров Да й на русьских могучих богатырей,
На всех славных поляниц на удалыих...
Все-то сидят пьяны-веселы
[Там же, N° 81].
Разночтения здесь (за вычетом № 84, где в соответствии с содержанием былины не упоминаются богатыри) никак
сюжетно не обусловлены — различия сюжетного порядка начнутся в ходе дальнейшего повествования. Просто Т.Г. Рябинин не имел вытверженного текста с описанием княжеского пира, он владел элементами этого описания (тоже не сводимыми к неизменяемому набору слов) и каждый раз должен был создавать его как бы заново. Варианты отражают различные возможности, границы и объем этой работы. Разумеется, тексты очень близки, но в них немало интересных различий. Так, сказитель меняет опорные глаголы («собирал», «заводил», «заводился»), эпитеты к словам «Владимир», «пир», «богатыри», находит разные конструктивные решения.
Этот пример, как и многие из приводившихся нами выше, подтверждает, что, в сущности, операции сказителя с местами «типическими» и «переходными» по возникающим задачам, по характеру своему мало различаются между собою. И там, и там певец должен выстроить стих и поставить его в связь с другими стихами. Для этого он пользуется формулами или создает бесформульные стихи. Может быть, отличие заключается в том, что для мест «типических» у него в распоряжении больше формул, они чаще «под рукой». То есть речь может идти о различиях, так сказать, количественного, а не качественного порядка. Ограничусь единственным примером, иллюстрирующим взаимосвязанность мест «типических» и «переходных» в реальных былинных текстах.
Картина пира и завязка сюжетной коллизии в былине о Дунае у Н.С. Богдановой: первый вариант записан в 1926, второй — в 1932 г.
Завел-то он славной да честный пир,
Открывал-то он честнбе пированьицё Пригласил к себи князей да всех бояринов А и русьских могучих богатырей...
(Далее следует монолог Владимира, он просит найти ему невесту.)
Вси молчали князи-боярины,
Вси молчали могучии богатыри,
Вставал тогда сильнёй Дунай Иванович,
Он вставал скорёнько на резвы ноги,
Говорил тут князю таковы слова
[Онежские былины, 1948, N° 149].
Завел он славной чёсной пир,
Зазвау-пригласиУ к сиби князей и ббяров И русьскиих могучиих бог4тырей,
Поленич зазвау удйлыих...
Вси молчали князи-бояровы,
Вси молчали поляничи удалый,
Вси молчали могучии богатыри.
В тую пору, в тот единый час Стовал сильнёй свет Дунай Иванович,
Стовал на свои на ноги на резвые,
Становился на гредень столовую.
Стоял Дунай Иванович прямёшенько,
Поклонялся низёщенько
[Былины Севера, 1951, т.2, N° 110].
Перед нами — два равноценных варианта, каждый со своими частными достоинствами, случайными деталями. В этом тексте почти невозможно выделить два типа мест, поскольку весь он выдержан в формульной манере — с несколькими легкими нарушениями, и формулы здесь не застывшие, но подвижные. Любая эпическая ситуация, любое действие, состояние, движение могут получить формульное выражение и тем самым войти в состав так называемых типических мест. С другой стороны, случаи нарушения формульности, введения бесформульных стихов, прозаизация стиха лишают соответствующие места в былинах права называться «типическими». Былинный язык един, как едина и грамматика его, законы построения былинного стиха распространяются на все повествование, и они либо строго соблюдаются, либо по разным причинам нарушаются — подчас независимо от предмета описания и изображения.
ТИПОЛОГИЯ ВАРИАТИВНОСТИ СКАЗИТЕЛЬСКИХ ТЕКСТОВ
1
Мы обратимся к текстам тех сказителей, которые, в принципе, не вносили при новых исполнениях каких-то перемен в содержательный план своих былин. Их привыкли считать «передатчиками», внимание исследователей охотнее обращалось к «импровизаторам», любившим и умевшим вносить всякий раз нечто другое в былинный текст.
«Передатчиком» называли и А.Е. Чукова.
Мы располагаем четырьмя его вариантами былины «Михаил Потык» — тремя в записи П.Н. Рыбникова [Песни, собранные..., 1989, т.1, № 29, 29а, 296] и одним — в записи А.Ф. Гильфердинга [Онежские былины..., 1950, т.2, № 150]. При сравнении их приходится учитывать разницу в технике записи у двух собирателей и не принимать во внимание наличие в одних и отсутствие в других служебных слов и незначащих частиц, а также непоследовательность в фиксации диалектных особенностей.
В всех четырех текстах сохраняется сюжетно-композиционное единство, сказитель, кажется, ни разу не допустил внесения каких-то новых содержательных элементов, перестановок, исключений. Очевидно, что он держал в памяти сюжет во всех его (ему известных) подробностях, ценя содержательную наполненность и выстроенность былины. В то же время тексты его изобилуют разночтениями — в изложении отдельных эпизодов, в характере формул и фразовых единиц, стихотворных строк. Сопоставляя варианты, не представляется возможным и оправданным ни попытаться сложить некий «сводный» текст, ни определить один из них как «лучший», «более полный», «канонический». Перед нами — четыре равноправных и равноценных текста, и мы вполне имеем основание допустить вероятное существование и других текстов, возникавших при других актах исполнения.
Многочисленные различия могут быть сведены к нескольким видам.
- Опущение отдельных стихов или фразовых групп, никак не влияющее на содержательную сторону текста. В варианте Рыбникова (№ 29) и Гильфердинга (№ 150) мотив похвальбы участников пира изложен в 6 стихах, в тексте Рыбникова (№ 29а) изложение сведено к двум стихам, у Рыбникова в № 296 его вовсе нет.
В № 29а есть такие стихи:
Кто же из них был большой брат,
Кто же из них был средний брат, .
А кто из них был меньшой брат?
В № 29 и у Гильфердинга этому соответствует один стих (первый), в № 296 — ни одного. В № 29 и у Гильфердинга реплика князя Владимира об ультиматуме Бухаря-царя занимает 8 стихов, в № 29а — 5, в № 296 — 3. Мотив «Бухарь спрашивает у богатыря, где у него дани-выходы» изложен в четырех стихах — в № 29а, в двух — в № 296, в одном — в № 29 и у Гильфердинга. Приезд богатыря в «землю Половецкую» излагается в № 29 и у Гильфердинга в семи стихах, в № 296 — в четырех, в № 29а — в двух.
Опущения могут идти за счет сокращения «парности» стихов.
В № 29а:
Ты прими-ка чару питья зелена вина,
Прими-ка сию чару единоей рукой.
В остальных вариантах — только второй стих.
В № 296:
Где был Михаила Потык сын Иванович,
Тут стань белой камешок!
В остальных — только второй стих.
В № 29 а, б:
Прибила татарина тут мертвого,
Мертвого она, мерзлого,
Прибила татарина она на стену.
В № 29 третьего стиха нет (у Гильфердинга это место вовсе отсутствует).
В № 296:
Третий русский славный богатырь,
А молодой Добрыня свет Никитич,
Отправился он да во Швецию.
В № 29 и 29а первого стиха нет.
Пропуски, сознательные или случайные, придают повествованию уплощенный характер, поскольку опускаются подробности, для движения сюжета особого значения не имеющие (например, в № 29, № 29а, у Гильфердинга жена Михаила Потыка притворно кается в своей вине (пять стихов), а в № 296 этого мотива нет; наличие в одних вариантах и отсутствие в других эпизода расставания крестовых братьев с Михаилом и др.).
- Легкие перестановки стихов внутри пассажей, никак не нарушающие логики повествования.
- Чаще других встречающееся — варьирование отдельных стихов или небольших стиховых единиц:
а) с синтаксическими сдвигами: '
В N9 29, 296 и у Гильфердинга:
Который пораньше да выедет,
Ко другому ехать на выручку.
В № 29а:
Кто же у них пораньше всих Да повыедет к другому на выручку?
В № 29а:
Привез тебе дани-выходы За двенадцать лет с половиною...
- Где же у тебя дани выходы За двенадцать лет с половиною?
В № 29:
Привез тебе дани-выходы От того от солнышка Владимира.
- Так где же у тебя дани-выходы?
б) с тенденцией на уплощение:
В № 29:
Что были у меня дани-выходы,
Навалены монетою мерною;
Все тележки порассыпались,
Колесочки рааломалися,
Так остались мужики там починиватъ.
В № 29а:
Отправлены монетою все медною,
Так дорогою тележки поломалися,
Остались мужики там починиватъ.
В № 296:
Что остались оне во чистом поле.
в) «естественное» распространение пассажа:
В № 29, 296 и у Гильфердинга:
Как Михайло Потык сын Иванович Взыскал свои дани-выходы,
Привез ко солнушку Владимеру.
В № 29а:
Воротился прежде всих Михайло Потык сын Иванович Ко солнышку ко князю Владимиру,
Привез ему дани-выходы За двенадцать лет с половиною.
- Перестановки внутри группы стихов, уточняющие ход действий:
В № 29:
Подоленка-королевична Выбегала на крылечко переное,
Выносила чару питьев забудущиих.
В № 29а, б и у Гильфердинга:
Наливала чару питья забудущего,
Выбегала на крылечко переное.
- Синонимические замены внутри стихов:
а) сказитель варьирует особенно часто глаголы: «Собирались» богатыри — «Отправились» богатыри; «Взыскал дани- выходы» — «Привез дани-выходы»; «Приехал ко Бухарю» — «Отправился к Бухарю»; «Появился старый казак» — «Приехал старый казак»; «Рассердился Михайло Потык» — «Разгорячился Михайло Потык»; «Бросит» дощечку — «Трепнет» дощечку; «Выносила чару» — «Наливала чару» — «Подносила чару»; «Стосковались братцы» — «Вспомнили братцы».
С переменой глагола может меняться конструкция или даже все оформление стиха:
В № 29: «Что повылетят вон двери с ободвериньями»
В № 29а: «Повыкинет вон дверь со вбдверьем»
В № 29: «Накрутился богатырь в платье цветное»
В № 29а: «Посадила Михайлу Потыка сына Ивановича».
Некоторые мены глаголов повторяются по нескольку раз,
и, следовательно, здесь нельзя говорить о простой случайности. Сказитель, видимо, был склонен к употреблению вариантов именно в словах, обозначавших действия;
б) перемены в эпитетах: «У ласкова князя» — «У славного князя»; «Славный богатырь» — «Сильный богатырь» (несколько раз); «Братец мой крестовый» — «Братец мой родимый».
в) перемена топонимов : «В Турцию» — «Во Индию во богатую» (дважды); «В Золоту орду» — «В землю Турецкую».
г) опущение устойчивых сочетаний : в № 29, у Гильфердин- га: «Государь родной батюшко»; в № 29а, б — нет.
В итоге сопоставлений на «микроуровне» складывается картина обильного варьирования плана выражения, нестабильности текстовой ткани. Совершенно очевидно, что у сказителя не было раз и навсегда затверженного текста — он знал и «помнил» былину по-другому: ориентируясь на жесткий план, на запас необходимых для данного сюжета описаний, изображений, характеристик, на традиционный арсенал необходимых формул, он относительно свободно этим материалом распоряжался, всякий раз пропевая былину словно бы заново.
Можно гадать о конкретных мотивах варьирования тех или других мест в былинах: то ли ему было неинтересно по- • вторять в точности текст, то ли по ходу исполнения он «сбивался» и находил новые решения, то ли сознательно шел на мелкие перемены и сокращения. Заметим лишь, что в его варьировании известную роль играла «инерция» воспроизведения текста. Так, раз пропев вместо «который» — «кто», он уже фиксировал эту замену и повторял ее в данном тексте либо до конца, либо на ближайшем отрезке. Употребленный эпитет или глагол (либо целый стих) всплывал затем где-то ниже. Похоже, что такого рода подробности закладывались в память сказителя и играли свою роль именно в пределах данного исполнения, выпадая и заменяясь другими в следующих исполнениях. Этот момент исполнительской психологии стоит учитывать при анализе варьирования плана выражения.
Все сказанное о А. Чукове стоит проверить на других текстах. Я ограничусь сопоставлением записей былины «Добрыня и Змей» [Онежские былины..., 1950, т.2, № 148; Песни собранные..., 1989, т.1, № 26, 26а], Перемены в тексте выступают здесь столь же, если не более, густо. Правда, опущений стихов совсем немного, зато разночтения следуют по всему тексту: тут и перестановка стихов, и дополнительные стихи и, конечно же, разное их оформление. Из случаев пространных ограничусь одним примером.
У Рыбникова (№ 26):
Тут Добрыня сын Никитинич Опустился он во нору во глубокую,
Сам говорил таково слово Молодой Забавы дочь Путятичной:
«Ай же ты Забава дочь Путятична!
За тебя я эдак странствую.
Поедем ко граду ко Киеву,
Ко ласкову князю ко Владимиру».
У тоя змеи у проклятая Наношено силы сорок тысячей,
Сорок царей, сорок царевичей,
Сорок королей, сорок королевичей,
А простой-то силы и сметы нет.
Говорил Добрыня сын Никитинич:
«Вы все цари, все царевичи,
Все короли, все королевичи!
А вам всем воля вольная,
Куда вздумаете, туда пойдете».
У Рыбникова (№ 26а):
Спустился во нору во глубокую;
Много там сидит царей, царевичев, Много королей, королевичев,
Простой-то силы и сметы нет.
Насчитал он силы сорок тысяч.
Говорит он Князевой племянницы, Молодой Забавы дочь Путятичной:
«За тебя я этак странствую!
Поедем ко граду ко Киеву,
Ко ласкову князю ко Владимиру;
А вам всем, господа, воля вольная».
У Гильфердинга:
Тогда Добрыня во нору пошел,
Во тыя в норы да во глубокий,
Там сидит сорбк царей, сорок царевичёв, Сорок королей да королевичёв,
А простой-то силы той и смету нет. Тогда Добрынюшка Никитинич Говорил-то он царям да он царевичам,
И тем королям да королевичам:
«Вы идите нынь туда, откель принесены, А ты молода Забава дочь Путятична,
Для тебя я эдак тбперь странствовал,
Ты поедем-ко ко граду ко Киеву,
А й ко ласковому князю ко Владимиру».
Удивительна та легкость, с которой А. Чуков оперирует в данном пассаже, переставляя стихи, опуская одни и включая другие, меняя изложение стиха, употребляя разные формулы для передачи мотивов освобождения полона, разные глаголы.
Умение А. Чукова пользоваться синонимичными выражениями и стихами иллюстрируется следующими примерами:
У Рыбникова (№ 26):
Как будет он во далече во чистом поле,
На тые горы Сорочинские.
У Гильфердинга:
Как будет он далече во чистом поли,
На тыя горы да на высокии.
У Рыбникова (№ 26, 26а):
Хочет змея его с конем сожечь,
Сама говорит таково слово...
У Гильфердинга:
А Добрыня той змеи не приужахнется.
Говорит змея ему проклятая...
Соглашаясь в итоге с Ю.А. Новиковым в том, что А. Чуков «избегал сознательного вмешательства в усвоенные старины» (в плане содержания), трудно принять оценку этого сказителя как «эталона передатчика»: слишком значителен у него вариативный уровень плана выражения. Несомненно, что в этом смысле А. Чуков представляет определенный тип севернорусского сказителя, отнюдь не сводимый к одной из трех категорий, выделенных в свое время А.М. Астаховой.
Несколько иной характер вариативности мы наблюдаем у И.П. Сивцева (Поромского). Былина «Илья Муромец и сын» записана от него дважды [Онежские былины..., 1951, т.З, № 219; Песни, собранные..., 1989, т.2, № 177]. Объем ее невелик — соответственно 187 и 154 стиха. Сразу возникает вопрос — откуда эти 33 «лишних» стиха.
В отличие от А. Чукова, И. Сивцев ряд пассажей сохраняет почти буквально (разночтения во многих случаях следует отнести на счет различий в методике записей двух собирателей). Совпадает чуть не половина былины (эпизоды появления чужеземного нахвалыцика, посылки Добрыни Ильей Муромцем и его отказа, погони Ильи). В этих пределах есть лишь несколько разночтений в составе стихов и внутри них.
Двустишие у Рыбникова —
Спят белый свет до вечера,
А темную ночь до бела свету
сведено у Гильфердинга в один стих:
Спят темную ночь до бел* свету.
У Рыбникова:
Не проехала ли паленица удалая,
Не подходит ли под коней лютый зверь?
У Гильфердинга второго стиха нет.
У Рыбникова:
И приводил он коней ко белу шатру,
Насыпал пшены белояровой,
И поглядел по дороге прямоезжия.
У Гильфердинга здесь — только третий стих, но стих первый всплывает в пересказе Добрыни.
В описании нахвалыцика у Гильфердинга выпали два стиха:
Из-под стремени борзой выжлец выскакивает,
У молодца с плеча на плечо ясен сокол перелетывает.
У Рыбникова Добрыня говорит:
«Я не смею ехать за богатырем,
Что его храбра поездка молодецкая».
Нельзя сказать, что приведенные пропуски сюжетно значимы, но все же они сказываются на художественной полноте текста.
Более объемные разночтения касаются центральных эпизодов былины — встречи, поединка отца с сыном и его исхода.
У Гильфердинга Илья Муромец настигает чужеземного богатыря после двух дней и ночей погони.
У Рыбникова:
На третий день попущается,
Увидел из далеча в поле богатыря.
У Гильфердинга первого стиха нет:
Да догнал он богатыря в чистом поли.
И опять у Рыбникова полнее:
И закричал Илья зычным голосом,
И засвистал старик по-змеиному;
И от того реву от звериного,
И от того свисту от змеиного Под богатырем конь на колены стал.
У Гильфердинга:
Закричал по-звериному
и нет 3—4 стихов.
Варианты дает описание поединка*
У Рыбникова:
И съехались два богатыря,
Будто две горы вместо столнулись,
Ударились богатыри копьями —
Только копья кольцы попригнулись.
Разъезд чинили на тридцати верстах,
Съехались богатыри,
Ударились опять палицами,
Только палицы поломалися;
И сошли они со добрых коней, ?.
И пошли богатыри на рукопашный бой.
У Гильфердинга трем первым стихам соответствует один:
Да съехались они ужо копьями.
Пяти последним стихам противостоят:
Да съехались богатыри палками,
Только палки по щербням отвернулисе.
Соскочили оны со добрых коней,
Да схватились оны на рукопашной бой.
Наряду с альтернативными стихами здесь есть и стихи «дополнительные»: у Сивцева в памяти словно бы хранится «полное описание» поединка, но для каждого варианта он выбирает из него что-то. Различия в деталях («ударились копьями» — «съехались копьями»; «ударились палицами» — «съехались палками»; «палицы поломалися» — «палки по щербням отвернулисе»; «пошли» — «схватились») свидетельствуют о свободном владении сказителем формульной техникой.
В эпизодах встречи Ильи с Сокольником есть уникальные подробности, ради изложения которых надо было, как говорили северные сказители, «извернуться», поскольку готовой формулы не существовало. Именно в таких ситуациях возникающие неизбежно варианты сильно разнятся.
У Рыбникова:
Илья Муромец поглядел на руку правую,
Сам говорил: «О Господи!
Подписал на ручке на правыя,
Что на бою смерть не писана, —
А теперь смерть мне приходит».
У Гильфердинга тенденция к формульности более отчетлива, но с потерей полноты.
Да и видит Илья, что беда пришла,
Поглядел он на ручку на правую,
На бою-де старику смерть не писана.
Для сравнения приведу это же место в исполнении П. Воинова [Онежские былины..., 1951, т.З, № 226]:
Заглянул Илья да на праву руку,
На правой руки подпись подписана:
«На бою Илье да смерть не писана».
Еще у одной сказительницы — И. Калитиной это место передано тоже не очень складно [Онежские былины..., 1951, т.З, № 233].
Другая, тоже уникальная для былин подробность — признание матери Сокольника. В полном виде оно приводится в варианте Рыбникова, но стихи таковы, что кажутся разрушенными, и можно даже допустить, что И. Сивцев не пропел, а проговорил их.
Чадо ты мое возлюбленное!
Ведь тут тебе родной отец:
Он меня в поле побил,
Со мной грех творил,
С того я тебя и прижила.
У Гильфердинга:
Да и ты дитя мое милоё!
Да и тут-то тебе ведь уж отец родной.
Между тем у того же Воинова это место изложено вполне прилично.
Да ай ты дитя же мое милоё!
Ты бился с родителём ведь батюшком.
Когда ездила я во чистб полё поляковать,
Съезжались мы с им на поединочку,
Он меня побил, да туг и грех творил,
Оттого ты дитя мое, зарожено.
Очевидно, И. Сивцев помнил суть данного повествовательного элемента, но не располагал отстоявшимся набором формульных его выражений и каждый раз должен был заново, искать решение..
Хотя И. Сивцев варьирует много меньше, чем А. Чуков, и гораздо больше заслуживает квалификации «передатчика», мы должны признать, что тексты свои он, пусть и без значительных перемен, каждый раз при исполнении воссоздавал заново.
Другими словами, принцип «composition in performance» распространяется на широкий круг певцов, принадлежащих к разным типам и разновидностям сказительского искусства.
2
Во многом близкие к нашим наблюдения и выводы были сделаны В.М. Гацаком [1971]. Сосредоточив внимание на текстах так называемых передатчиков, он обнаружил в их вариантах различия содержательного порядка. На примере соответствующих текстов сказителей из династии Рябининых он убедительно показал, что речь должна идти не о поздних привнесениях мотивов, не о движении вариантов во времени, а о принципиально ином сказительском феномене — «о существовании несовпадающих, альтернативных ходов в изложении былины одним и тем же певцом». «Причем налицо несомненное соответствие обоих продолжений — редуцированного и развернутого — существующей традиции, точнее, тем тенденциям в исполнении былины, которые обнаруживают себя в XIX и в XX вв.» [Гацак, 1971, с.16].
Другое наблюдение связано с фактами опущения, или выпадения, которые не нарушают логики повествования и даже могут быть оправданы смыслом. В, Гацак назвал эту особенность вариативности «сказительской синкопой»: без «промежуточных» стихов связь эпизодов оказывается по-своему эффектной [Там же, с. 18]. Аналогичные случаи он обнаруживает в практике кобзарей и восточнороманских эпических певцов. И вывод: «На позднейшей стадии бытования эпоса синкопа становится органической: происходит сокращение повествования именно за счет промежуточных, повторяющихся слагаемых его» [Там же, с. 19—21].
Подобно моим наблюдениям [Путилов, 1966], В. Гацак опровергает утверждения прежних авторов типа: сказитель текст «помнил прочно и его не менял». Анализ на уровне стиха устанавливает, например, что у Т.Г. Рябинина в былине «Дунай- сват» в трех разновременных изложениях обращения Владимира к гостям — при всей их близости — дословного совпадения нет ни в одном стихе. У Ф.А. Конашкова «словесное выражение» трех вариантов былины об Илье Муромце оказалось «далеко не идентичным» [Гацак, 1971, с.23]. Полностью подтверждаются мои выводы, полученные на основании текстов других певцов: сказитель «не держит в памяти некий канонический текст», «в то же время он не утрачивает основную идею, узловые, опорные образы и стилистические фигуры <...> А на их основе и рождается заново текст» [Там же, с.24]. И далее: «Мы вправе считать, что поэтическая синонимия составляет не только идеальную норму, но и основной закон соотношения текстов одного певца, записанных при равнозначных объективных и субъективных условиях». «Единство выражается в первую очередь в общности смысла, а не конкретной лексики. Совпадения в словесном выражении — не условие, а скорее следствие такого единства» [Там же, с.25].
Можно оспорить связанный с этим вывод автора, согласно которому «главное в эпической памяти — не формула в точном и неизменном словесном выражении, а художественное содержание, поэтическая фактура повествования» [Там же, с.24]. Во- первых, само понимание «формулы» (в трактовке А. Лорда, принимаемой мною) предполагает не «неизменность выражения», а способность свободного варьирования. Во-вторых, главное — память на «художественное содержание» сама по себе результата в виде пропеваемого текста не дает: нужны владение фондом формул, эпической лексикой и грамматикой и умение всем этим пользоваться в ходе живого исполнения.
Проблему устойчивости сказительского текста В. Гацак в той же статье рассматривает на материалах восточнороманских певцов и, в принципе, обнаруживает — с некоторыми конкретными отличиями — те же закономерности.
В итоге автор предлагает новую трактовку варианта, значимую, во всяком случае, для каких-то групп сказителей: «Очень часто то, что записывается при каждом исполнении, — это не варианты одного текста, а конкретные воплощения более широкого поэтического запаса». «Примеры активной, нестесненной передачи народных поэм (особенно былйн), приведенные в статье, показывают, что певец прежде всего — хранитель эпического знания <...> Именно знание поэмы (более широкое, чем знание одного строго оформленного текста ее) находит проявление в том, что у певца не одна повествовательная возможность, а “пучок” таких возможностей ' <...> Оставаясь в пределах эпического знания, исполнитель былины выбирает один из альтернативных ходов, добавляет или убавляет художественные детали: производит перестановку их, воплощает изложение в иные слова, — соблюдая художественную синонимию, и т.д.» [Там же, с.45].
Вполне поддерживая пафос статьи, хотел бы внести в утверждения автора некоторые ограничения. Сказитель, как правило, знает не просто поэму, но ее определенную версию, редакцию, локальную (или индивидуальную) разновидное, ч Он пропевает ее именно в рамках этого конкретного знания, выходы за его пределы возможны, но не столь часты и не ломают этих рамок. Конечно же, пропетый текст не покрывает знания поэмы, а является одной из возможных его реализаций. Однако же рискну заметить, что текст — не как совокупность устойчивых фраз, стихов, слов, синтаксических форм и т.д., но как определенная последовательность повествования с соответствующим набором возможных реализаций, с фондом формул, имен, топонимов, синонимических предикатов, эпитетов и т.д., — тоже органично входит в категорию знания. Одно от другого просто неотделимо.
Проблема «текстовой материи» эпоса и ее сохраняемости во времени стала одной из главных в монографии В. Гацака [1989]. Автор выработал оригинальную методику сопоставительного анализа «дублированных (двух- и трехкратных) записей» для установления 6 них сходств и различий — методику «синоптической» записи [Там же, с.65].
Продемонстрированная в книге разверстка сопоставляемых текстов, действительно, позволяет наглядно представить соотношения вариантов одновременно на уровне текстовом и композиционном. Наглядность таблиц5 делает как будто убедительными и итоговые наблюдения автора. Отметим, однако, одно привходящее обстоятельство, достаточно случайное, но, на мой взгляд, влияющее и на успех методики, и, отчасти, на выводы. Развертка шести текстов и по горизонтали, и по вертикали оказалась сравнительно нетрудной, в частности, потому, что дублированные записи пришлись на былину, которая, во- первых, отличается относительной краткостью и, во-вторых, не знает сколько-нибудь существенных разночтений сюжетного (мотивского) и даже текстового порядка: имею в виду всю совокупность известных вариантов былины «Три поездки Ильи Муромца». Различия относятся преимущественно к наличию или отсутствию всех трех частей сюжета и к степени полноты изложения каждой части. Эффектность (и самую возможность) синоптической развертки хорошо было бы испытать на былинах типа «Илья Муромец и сын», «Михайло Потык», где мы столкнулись бы с принципиально иной вариативностью (разумеется — в границах всей известной традиции). Однако наше предложение будет всякий раз упираться в наличие соответствующих дублей.
Развертка шести вариантов «Трех поездок Ильи» демонстрирует справедливость одного наблюдения В. Гацака, а именно: «Различий в тексте стихов намного меньше, чем различий в их числе и в позиции». Отсюда делается вывод о существовании внутри сказительской традиции особого типа «повышенной текстовой воплощенности», свидетельствующей о «сохраняемости традиционной “поэтической материи”» [Там же, с.231]. Думаю, что обнаруженная особенность обусловлена не только типологией сказительского отношения к традиции, но и характером сюжета, послужившего материалом для анализа вариантов. Убежден, что названные мною выше сюжеты, будь они сопоставлены аналогичным образом, у тех же сказителей дали бы иную картину.
Обратимся, однако, к таблице с разверткой шести вариантов и от более или менее суммарных сопоставлений стихов спустимся на уровень их элементов.
Если при «суммарном» подходе есть основание говорить, о «тождественности “готовых” стихов» как «основной форме манифестации совпадений и сходств» [Там же], то рассмотрение стихов на микроуровне вносит сюда свои поправки. Полной тождественности стихов нет, в основной их массе обнаруживаются те или иные разночтения. К числу наиболее бросающихся в глаза и — не побоюсь сказать — демонстрирующих некую
тенденцию, является варьирование предикатов в формульных стихах. Нередко меняется только (или почти только) предикат.
«Где ходит мой добрый конь» — «Где мой гуляет добрый конь»;
«Пошел старик во высок терём» — «Заходил Илья да во высок терём»;
«Мосты-то под старым качаются» — «Д ак мосгы-ты под старым ломаются»
- «А мосты под старым подгибаются»;
«Дак двери колодьём завалены» — «Да колодьями-то двери затасканы»;
«Да скочил старик со добра коня» — «Соходил ли старик со добра коня» —
«Свернулся он да со добра коня» — «Соскочил туг старик со добра коня».
В других случаях замена предиката , отчасти меняет «текстовую материю» тождественной формулы.
«И поехал большею дорогою» — «Да поезжает в ту дорожку широкую»;
«Останавливал добра коня» — «Оставлял коня да не привязана».
Признаем, однако, что «синоптическая» запись была использована В. Гацаком весьма эффективно. Так, немало тонких и как будто надежных наблюдений над текстами В.П. Щего- ленка вносят подчас неожиданные уточнения и дополнительные нюансы в сложившееся представление о том, как обращался с текстами этот сказитель-импровизатор («полное преобладание композиционных различий над вербальными»),при том, что «путь, по которому следует повествование, отмечен вехами, совпадающими в разновременных текстах»; отсутствие стихов, какие можно было бы считать «специально созданными по ходу устного исполнения» [Там же, с.68—70].
Отмечу еще одно наблюдение автора относительно болгарской сказительницы Цв. Балтяновой: «направляющие вехи» повествования выступают у нее в качестве «совпадающих констант», хотя «сам тип воспроизведения песни» у нее иной [Там же, с.71—72].
Выбор вариантов для «синоптической» записи удачен в том отношении, что можно проследить передачу и изменения традиции через несколько поколений за 100 лет. Особо интересны, как считает автор, данные о совпадающих или сходных стихах, обозначающих основную линию повествования: они показывают, что «константные» стихи поддерживали на протяжении длительного времени у поколений сказителей «основ-' ную линию повествования». «Все это предстает на фоне убывания фактурной оснащенности эпической традиции» [Там же, с. 127].
Для В. Гацака, увлеченного задачей (действительно важной) выявить «поэтико-содержательные основы передаваемой
эпической традиции» (название 2-й части книги) и проделавшего ради этого скрупулезную аналитическую работу,:• вопросы «механизма» освоения и передачи традиции, обучения певцов и искусства воспроизведения оказались как бы побочными. Тем не менее стоит сказать и о некоторых моментах монографии, относящихся к этой второй теме.
По мнению Автора, наследуемое певцом знание эпических песен включает «парадигмы» различий, набор альтернативных решений и вариантов. Тем самым варианты, знакомые нам по текстам певцов, от которых произведена запись, «в основе своей намного старше, нежели сами певцы».
«Варианты (версии, редакции) предстают как поэтическая реальность, сложившаяся исторически, а не только (и не столько) возникающая на глазах собирателей». Следовательно, стоит говорить о «труде всех поколений певцов, которые содействовали складыванию и развитию вариантов» [Там же, с.237].
Добавим от себя, что при таком характере процессов передачи, усвоения и исполнения эпоса особое значение приобретает план выражения как один из первоэлементов варьирования и шире — сказительского искусства. Именно в нем в первую очередь реализуется сформулированный М. Пэрри- Лордом закон — «воспроизведение в ходе исполнения».
3
Новейшие исследования сильно расшатали традиционный взгляд на вариативные разночтения как проявления более или менее осознанной индивидуальной или коллективной работы сказителей над традицией, как выражение процессов «совершенствования» или «порчи», «идейного» переосмысления, внесения «личного начала» в виде элементов «социального», «бытового», «психологического» опыта и художественных вкусов. Не отрицая того, что эпическая традиция развивалась во времени, испытывала разнообразные его влияния и вбирала нечто новое, мы в то же время отказываемся рассматривать под этим углом зрения всю массу обнаруживаемых разночтений в сюжетах, мотивах, образах, изобразительных деталях и до известной степени противопоставляем тезисам о «творческой работе» и «личном вкладе» положение о сказителе как хранителе и носителе эпического знания, богатого реалиями и возможностями для варьирования и одновременно заключенного в более или менее жесткие рамки и обеспечивающего живую жизнь эпоса без необходимости его непременного обновления. В. Гацак справедливо замечает: «Индивидуальный вклад усматривается там, где уместнее говорить об одном из возможных возобновлений традиции» [1971, с. 13].
Ю.А. Новиков заново подверг анализу те былинные сюжеты, о которых его предшественники писали как об «оригинальных модификациях и контаминациях», а также «отдельные эпизоды и художественные образы», «которые нередко трактуются эпосоведами как индивидуальные привнесения мастеров». И вот заключение: «На поверку почти все они оказываются традиционными, известными и другим исполнителям» [Новиков, 1992, с.20].
Со времен А. Гильфердинга за сказителем А. Сорокиным закрепились такие характеристики, как «склонность к личному сочинительству», «бесцеремонное отношение к тексту былин». Его считали импровизатором, ссылаясь, в частности, на его же собственные слова: «Я могу спеть так или иначе, как вам будет угодно» [Онежские былины..., 1949, т.1, с.52]. В противоположность этому Ю.А. Новиков пришел к заключению, что былины А. Сорокина «отличаются удивительной устойчивостью». Работа исследователя поучительна в методическом плане: он осуществил анализ на уровне «композиционной структуры» (варианты оказались «почти идентичны»), «постоянных формул, монологов, так называемых переходных мест» («совпадает большинство»). При всем том выявились вариативные разночтения (опущения, перенесения, развернутые или краткие описания, детали, фразы, эпитеты) [Новиков, 1972, с.88—91].
Ю. Новиков отнес слова А. Сорокина («так или иначе...») к разряду «случайного, субъективного» [Там же, с.94]. Между тем, на наш взгляд, слова эти вполне точно определяют способность и готовность сказителя (и не одного его) варьировать план выражения и вовсе не касаться содержательных основ былин. Именно в этом смысле стоит интерпретировать заверения многих певцов (и не только русских) в точности и неизменности их текстов. Без перемен — содержание, «так или иначе» — все остальное.
В последнее время идеи, подсказанные А. Лордом и проверенные на русском эпосе относительно устойчивости и вариативности текстов и роли в этом процессе сказителей, находят отклик и подтверждение у специалистов по эпосам других регионов. Приводим высказывание Т. Мирзаева, в котором читатель найдет очевидную перекличку со всем сказанным нами выше: «Каждый текст, записанный от бахши, является лишь одной из многочисленных его возможностей. Ибо в его памяти находится не в строгом понимании художественный текст, имеющий точный объем, упорядоченный во всех отношениях и окончательно отшлифованный, а огромный поэтический запас, состоящий из сюжетов, мотивов, эпических клише, средств изображения и др. Другими словами, в творческой памяти сказителя содержится громадный запас эпических знаний, заключающий в себе общий сценарий дастанов, их основные сюжетные звенья и эпизоды, целые выученные отрывки и поэтику эпоса. При каждом исполнении бахши творчески пользуются этой возможностью» [Мирзаев, 1986, с. 170].
Я готов полностью согласиться с такой широкой, гибкой трактовкой эпического знания, при которой план содержания и план выражения не разделяются, но существуют в диалектическом взаимодействии.
Между прочим, в примечании к цитированным словам автор предупреждает, что такой характер эпического знания не является универсальным для среднеазиатского дастаноисполнения. «В памяти хорезмских бахши существует именно подобный “отработанный”, неизменяемый текст. Они в каждом исполнении дастана повторяют его в точности», изменениям подвергаются прозаические части [Там же, с. 170].
Сказители — «ученики» и «учителя»
1
То, что оба слова поставлены в кавычки, подчеркивает условность терминов и широту их применения у нас: «учитель» — не только тот, у кого сказитель непосредственно учился своему искусству и перенял от него репертуар, но и всякий, от кого сказитель на любом этапе своей исполнительской деятельности перенимал ту или другую поэму.
«Ученик» — не только воспитанник кого-либо или каких- либо учителей, но и тот, кто на протяжении, может быть, всей творческой жизни усваивал от разных певцов новые для себя поэмы.
Взаимоотношения «ученика» и «учителя» — это, в сущности, взаимоотношения певца с традицией, которую он встречает в формах конкретных индивидуальных исполнений, усваивает ее и сам затем воспроизводит и в какой-то момент становится сам «учителем».
У каждого сказителя были «учителя» и любая исполненная им поэма восходит к поэме «учителя». К сожалению, чаще всего мы не владеем этим первоначальным «источником» и поэтому не можем судить, как усвоил его «ученик» и что с ним сделал. Ссылки того или иного певца на своих учителей далеко не всегда достаточно надежны. Тем более ценны и важны дошедшие до нас записи от «учителя» и «ученика»: они позволяют многое увидеть и понять как в судьбе эпической традиции, так и в творческой практике поколений.
Приходится, однако, подходя к их анализу, учитывать некоторые немаловажные обстоятельства. Самое главное — ни текст «источника», ни «производный» текст не должны рассматриваться как «канонические», раз и навсегда созданные. В действительности же записи — это лишь однажды и вполне случайно зафиксированные моменты жизни данной поэмы. В идеале необходимы несколько таких фиксаций — и чем больше, тем лучше: уверен — это сразу направило бы нашу мысль и наш анализ в единственно верное русло. К сожалению, реальность оставляет нам слишком мало подобных случаев. Тем более следует ими дорожить.
Второе обстоятельство: как бы ни был расположен «ученик» к своему «учителю», сколько бы ни заверял нас, что слышал поэму только от одного певца и ничего в ней не изменил, — приходится держать в уме возможность того, что у данного текста был не один «источник» и что «ученик» частично «поживился» на стороне.
И третье: должно быть стоит учитывать разницу между ситуацией, когда поэма воспринимается от действительного учителя, а значит — прослушивается неоднократно и откладывается в памяти по-особому, и ситуацией «случайной», когда поэма услышана один раз от встреченного сказителя.
Обратимся теперь к материалам русских былин, которые достались нам благодаря сознательным или случайным усилиям собирателей.
Для сравнительного анализа я выбирал тексты сказителей, которые находились между собой в самых разных отношениях. Начну с самого «простого» случая: И.М. Калитин «понял» свои старины от матери, Ирины Калитиной. В свое время от нее записывал А. Гильфердинг (сын-мальчик присутствовал при этом). И.М. Калитина нашла экспедиция братьев Соколовых. Мы располагаем, благодаря работе разных собирателей, текстами былины «Илья Муромец и сын», разделенными промежутком в 55 лет [Онежские былины..., 1951, т.З, № 233; Онежские былины, 1948, № 247].
Из 145 стихов источника «вторичный» текст сохранил без сколько-нибудь значимых расхождений чуть меньше половины. Характер разночтений внутри стихов таков, что их вполне можно отнести на счет обычной вариативности, т.е. И. Калитин в них мог варьировать не только усвоенный им текст матери, но и собственный текст. Стихов, разночтения в которых касаются отдельных слов и не меняют ни значений, ни синтаксических конструкций, — примерно 30, т.е. 20%. Таким образом, около половины стихов сына как бы повторяют стихи матери, но даже эти повторения отнюдь не буквальны (буквальных — всего 12).
Далее отметим разночтения, охватывающие один—два стиха. Начало у Калитиной таково, будто она потеряла первый стих:
Выезжало два сильние два могучие два богатыри.
Вариант сына «возвращает» начальный стих, но в такой форме, которая потребовала перестройки второго стиха:
Как две сильные горы вместе скатилисе,
Тогда два сильныех могуциех богатыря вместе съезжалисе.
Первый стих, впрочем, здесь явно не у места: формула эта принята для передачи мотива встречи противников, и в этом своем значении она далее фигурирует в обоих текстах. Можно думать, что сын просто использовал ее для начала.
В рассказе Добрьщи о чужом богатыре два «своих» стиха, не вполне характерных для передачи данной ситуации:
У богатыря конь-от скацет по целой версты,
Да из копыт мецет по целой копны.
Несколько мест воспринимается как восполнение пробелов в тексте матери:
Да и палицю мецет под облаки,
Да за ту ю, палицю, подхватыват.
(У матери нет первого стиха.)
Да и тут-то Илья да славной Муромец Он уздал своего добра коня.
(В тексте матери — сразу второй стих.)
У матери опущены «естественные» стихи: после описания седлания коня:
Да ён скоро садился на добра коня;
Повторение формулы после описания третьего дня —
Едет долог день до вецера,
Да и темную ноцьку до бела свету.
У сына «восстанавливаются» «парные» стихи:
Да и тут богатырь-от неверный Да и бьет коня по туцьным бедрам...
«Ты скажись, ты какой земли,
Ты какой земли, ты какой орды?»
«Восстанавливаются» опущенные стихи:
И встрепенулси да под богатырем,
Уфатил богатыря за желты кудри...
Да и тут богатыри разъехались,
и др., в том числе — о смерти Сокольника от отца.
Случай «распространения»: картина, увиденная Добрыней, повторяется в рассказе вернувшегося богатыря.
Еще: трем стихам матери соответствуют восемь стихов сына.
Да и стал он у менягто ён выспрашивать.
Я сказался девицы Северяничны,
Ён наказал тебе-то ведь низкой поклон.
Он спросил какой земли,
Какой земли, какой орды,
Какого отца, какой матери.
Я сказал: Сиверной страны. Золотой Орды,
Я есь сын девице Северьянисны.
Ён сказал таково слово:
«Ты поезжай домой к своей матери,
Да скажи Северьяницьне низкой поклон».
Возникает ощущение, что текст сына как бы восполняет мелкие недостатки текста матери, но, кажется, едва ли не все отмеченные нами случаи надо отнести не на счет особенного знания сына, а скорее — на счет его эпической памяти, сохранившей полноту материнского текста, полноту, не зафиксированную дошедшей до нас записью А. Гильфердинга: по-видимому, собирателю не повезло, сказительница была не в лучшей форме.
Случаев обратного порядка, когда бы сын опустил что-то, немного, хотя некоторые из них заметны. Так, в описании чужого богатыря он упустил стихи:
У правой ноги борзой ли кобель проскакиват,
С плёча на плече ясен сокол перелёты ват.
В рассказе богатырки:
Дак тут тебе, дитя, тебе родной отец,
И когда ездила я в поле поляницею,
И тогды он меня побил, да сб мной грех творил,
Да с того я тебя, дитятко, спородила.
В тексте сына остался один первый стих.
Таким образом, сын что-то запомнил из других исполнений матери и упустил из исполнения, зафиксированного
А. Гильфердингом.
К какому же типу сказителей относится И. Калитин? В его тексте нет новаций и привнесений из традиций других певцов — он целиком зависим от матери. Но он вполне свободно ведет себя в текстовой конкретике, отнюдь не повторяя затверженного материнского текста: что-то упускает, что-то восполняет, что-то меняет, обнаруживая способность по-своему воспроизвести любой стих или группу стихов. Он, конечно же, передатчик, но не механический. В творчестве таких сказителей эпическая традиция сберегалась в своих устоявшихся формах, не поддаваясь ни разрушению, ни модернизации, но и не окостеневала в своей текстовой материи. И. Калитин не был «записным» знатоком и исполнителем былин. Но среди тех, кто знал много былин, любил их исполнять, было немало сказителей этого типа. Может быть даже, они составляли большинство.
Обратимся теперь к ситуации — усвоение былин сыном от отца (речь идет о А.Т. и Х.А. Гусевых). Записи не разделены во времени, что придает им особенный интерес. Обратимся к былине «Добрыня и Алеша», записанной А.Ф. Гильфердингом [Онежские былины..., 1951, т.З, № 290, 292].
Совпадающих или мало различающихся стихов — около 60 из 145. Из разночтений внутри стихов отмечу склонность сына к «инверсии»: вместо «Хорош был заведен» — «Был заведен хорош»; вместо «И ходит по палатам княженецкиим» —¦ «По княженецким полатам похаживал»; вместо «И жди меня третье три года» — «Третье-то жди меня три года»; вместо «Пройдет того времени» — «Того времени пройдет».
Не стану здесь приводить разночтений в употреблении предикатов, глагольного времени и т.п. -г с этим мы уже встречались при сопоставлении вариантов одного певца. Можно сказать, что различия в текстах «ученика» и «учителя» во многих случаях в принципе не отличаются от тех, какие обычны для вариантов самого певца.
Далее: подобно И. Калитину X. Гусев «восполняет» опущения одного—двух стихов в тексте отца. Так, в описании собравшихся на княжеском пиру добавляется стих:
Все на пиру распотешились;
То же — в изображении князя, прохаживающегося по палате:
Руки в карманах понашивал.
Еще:
Расшибал он бабу по чисту полю
Сорокам, воронам на пожраниё.
(В отцовском тексте нет второго стиха.)
Местами текст сына выигрывает своей насыщенностью:
У отца:
Наливали ту чару зелена вина.
С руки он спустил свой злачён перстень.
У сына в развитие предыдущих стихов:
Приказал Алеша молодой жене
Налить-то чашу зелена вина,
Подать-то калики перохожия.
Примае калика перохожая,
Полагае перстень со правой руки В чару зелена вина,
Подавае Алешиной молодой жене;
У сына восстанавливается «парность»:
Надевай-ко платье цветное,
Платьё цветное богатырскоё.
Распекло-то севодни красно солнышко,
Осветит-то севодни млад светёл месяц.
Наконец: Гусев-сын восстанавливает несколько объемных пассажей, явно пропущенных Гусевым-отцом при исполнении былины А. Гильфердингу. Так, пропущен отцом (и полностью дан у сына) эпизод возвращения Добрыни с пира домой, с расспросами матери и ответом богатыря (24 стиха). То же — мотивы сватовства к жене Добрыни при участии князя и предстоящей свадьбы; полнее изложен приезд Ильи Муромца к Добры- не и его сообщение о свадьбе. По-видимому, сюда же стоит отнести обращение Добрыни к матери с просьбой принести ему «шалыгу подорожную» и «гусли муравчаты».
G вариантами в прямом смысле слова мы сталкиваемся в случаях эпической синонимии. У отца — «под красной-то сосной», у сына — «под красным-то бором»; у отца — «у ласкова князя», у сына — «у ласкова солнца»; у отца — «тут же баба и умерла», у сына — «тут-то ей да скора смерть пришла»; у отца — «платье черное», «платье Добрынино», у сына — «платье калическо», «платье цветное богатырскоё».
Все же в тексте отца нашлось несколько подробностей, которых нет у сына. Среди них — жалоба Добрыни Илье:
«Подломились у меня ножки резвые,
И трёпали у меня ручки белые,
И не могу я убить-то богатыря».
Похоже, Гусев-сын упустил и другое поэтическое место в былине. Мать Добрыни, не узнавая его, говорит:
«И ой же калика перехожая!
Пришел ты, калика, насмехаешься Надо мной, бессчастной, над матерью.
Потерялось у меня солнце красное,
А сегодня закатился млад светёл месяц,
У Добрыни молода жена замуж пошла».
Может быть, X. Гусева смутили две последние строки со странным параллелизмом?
Все же можно заключить, что Гусев-сын, подобно Кали- тину-сыну, в своих исполнениях мало отступал от традиции учителя-отца, но в границах этой усвоенной им традиции чувствовал себя свободно и уверенно. С другой стороны, нет оснований считать, что он как исполнитель был выше отца: скорее всего, какие-то внешние обстоятельства послужили причиной не очень хорошего выступления А. Гусева перед именитым собирателем. Вот лишний аргумент в пользу того, как неосторожно судить о мастерстве сказителей по случайно сделанным от них записям. В данном случае сопоставление вариантов отца и сына позволяет лучше представить возможности каждого из них.
2
Преимущественное внимание к содержательной, сюжетнокомпозиционной стороне вариативности, которое было характерно для исследователей 20—50-х гг., приводило к тому, что взаимоотношения сказителей с текстами, принципы усвоения и особенности воспроизведения трактовались подчас односторонне, упускались существенные аспекты. Вот показательный пример. А.М. Астахова отнесла Егора Борисовича Сурикова к первому типу сказителей, «усваивающих от своих учителей не только основную сюжетную схему и запас поэтических формул, а всю словесную композицию в целом». Тексты Е. Сурикова «чрезвычайно близки к текстам матери, в значительной части своей повторяя их почти дословно» [Былины Севера..., 1951, т.2, с. 10]. То же самое говорилось о былинах другого сына Д.В. Суриковой — Антона Борисовича. Между тем картина предстанет иной, если мы начнем сопоставлять тексты матери и двух ее сыновей на уровне «словесных единиц» — отдельных стихов, их значимых объединений, «эпических лексем». В качестве примера возьмем былину о Василии Буслаеве, известную в одной записи от Домны Васильевны [Онежские былины..., 1950, т.2, № 141], в двух записях от Егора Борисовича [Онежские былины, 1948, № 145 и Былины Севера, 1951, т.2, № 102] и в одной записи от Антона Борисовича [Онежские былины, 1948, № 136]:
К сожалению, текст матери воспроизводится у А. Гильфер- динга не в буквальной, а в обработанной записи, что, конечно, затрудняет анализ его на интересующем нас уровне. Однако сравнение вполне надежно позволяет заключить: тексты сыновей повторяют былину матери, но говорить о дословном повторении никак нельзя. Полностью совпадающих стихов почти нет. Можно с определенностью утверждать, что и Егор, и Антон излагали текст, усвоенный ими от матери, по-своему, формируя собственные стихи. Ограничусь начальными эпизодами. С одной стороны, в текстах братьев пропущены отдельные стихи матери, причем — у каждого свои. Отметим разночтения в употреблении глаголов: «чоботы надернула», «шубу накинула» [Онежские былины..., 1950, т.2] — «чоботы надела», «шубу-то надела» [Онежские былины, 1948, № 145] — «чоботы надернула», «шубу накинула» [Там же, № 136]. В текстах сыновей есть стихи, которых нет в записи А. Гильфердинга: «И несла она его тут со улицы» [Там же].
Варьируются формулы:
Тот поди ко мне на почестей пир,
Кто выпьет эту чару зелена вина,
Кто истерпит мой черленой вяз
[Онежские былины..., 1950, т.2,
N9 141).
А кто выпьет эту чарку зелена вина,
А и то пойди ко мни да на почестей пир
[Онежские былины, 1948, № 145].
Я ударю дубиной подорожною, —
Тот идет ко мне во дружины,
Кто выпьет чару зелена вина! .
[Там же, № 136].
Сравнение двух текстов Е. Сурикова показывает вариативность, свидетельствующую о том, что сказитель при этих двух исполнениях не повторял некий затверженный текст, но как бы заново воспроизводил его, оставаясь в жестких границах усвоенных им некогда содержания, композиции, порядка стихов и фонда формул. Жесткость эта отнюдь не лишала каждого исполнения творческого начала, но ставила ему ясные пределы.
Напрашивается вывод, что выделение сказителей-пере- датчиков, предложенное А.М. Астаховой, действительно лишь для содержательного, сюжетно-композиционного уровня и художественно-стилистических элементов и не раскрывает всей сложности и тонкости взаимоотношений сказителя с усвоенной им традицией, в том числе — с традицией учителя.
Добавим сюда еще некоторые соображения В.М. Гацака, который также сопоставлял эти тексты. Он отметил «взаимную дополняемость трех текстов разных лет» и справедливо заключил, что «ни одно отдельно взятое исполнение не бывает до конца исчерпывающим». Сказитель при каждом исполнении то вспоминает, то опускает разные подробности, дает лексические, ритмические варианты, перефразировки, сводит два стиха в один или, напротив, распространяет один до двух и т.д. Тем самым понятие «сказитель-передатчик» требует «определенного уточнения» [Гацак, 1971, с.ЗО—31].
При исследовании отношений «ученик»—«учитель» нам стоит считаться с серьезными ограничениями, которые ставит этим отношениям Ю.А. Новиков [1984]. Разумеется, он не отрицает роли непосредственной зависимости «понятых» текстов от текстов тех или других сказителей и сам приводит многочисленные соответствующие примеры. При всем том он обращает внимание на несколько существенных моментов и главный из них — «специфику региональных традиций», выражающуюся как в характере сюжетного репертуара, так и в типе обработки конкретных сюжетов, наконец — в «подробностях изложения».
Обучение былинам, как правило, происходило в границах «своего» региона, и эпический репертуар усваивался в «своей» региональной форме. Ю.А. Новиков весьма скептически относится к заявлениям сказителей о том, как. они перенимали старины от захожих певцов, однажды их прослушав. Такие свидетельства нередко опровергаются текстологическим анализом, доказывающим принадлежность текста к местной традиции [Новиков, 1984, с.60—61]. Другой немаловажный аргумент: если это не выдающийся мастер, а начинающий сказитель, ему необходимо прослушать былину не один раз, чтобы усвоить во всех деталях [Там же, с.58].
Ю. Новиков подчеркивает, что эпический текст прежде всего регионален. «Повсюду прослеживается общая закономерность: устойчивость региональной традиции, сохранение ее специфических особенностей; многие из них в новых записях становятся еще заметнее» [Там же, с. 59].
Автор считает преувеличением склонность В.И. Чичерова объяснять происходящие в эпической традиции эволюционные процессы «личным вкладом выдающихся певцов», а «все более или менее близкие варианты непременно возводить к их репертуарам» [Там же, 0.6-1].
«Сознательная установка начинающего певца на репертуар одного мастера явление исключительное <...> Творчество даже самого выдающегося певца — составная часть местной традиции, но оно ее никогда не исчерпывает». «Подлинной школой» для будущего сказителя «служит коллективная традиция» [Там же, с.62].
На многочисленных примерах Ю.А. Новиков показывает, что, с одной стороны, репертуар сказителей никогда почти не восходил к одному индивидуальному источнику, «учителей» было несколько (и «ученик» часто их не запоминал), а с другой —в конкретных текстах, наряду с основным слоем, идущим от «учителя», постоянно встречаются элементы, ему не принадлежащие и пришедшие другим путем. Так, К). Новикову удается разобраться с вероятными источниками былин П. Воинова: в них искусно соединились два разных извода кенозерской редакции сюжета «Илья Муромец и Сокольник» — «сивцевский» и «нечаевский» [Там же, с.65]. Столь же аргументированно автор отвел утверждение
В.И. Чичерова о роли елустафьевской традиции в формировании былинного репертуара Т. Г. Рябинина и восстановил реальную сложную картину взаимоотношений выдающегося сказителя со своими учителями, и в целом — с предшествующей традицией [Там же, с.66—67].
В другой своей работе Ю. Новиков заметил, что у Т.Г. Рябинина «было по меньшей мере 5 учителей, причем Елустафь- ев, именем которого названа сказительская школа, занимал среди них далеко не первое место» [1992, с. 15—16]. И здесь же: «У подавляющего большинства выдающихся олонецких старинщиков <...> не было сознательной ориентации на одного учителя, на традиции одной школы; в своем творчестве они аккумулировали лучшие достижения традиции, опирались на эпическое знание многих певцов» [Там же, с. 15].
Воздавая должное авторитетным положениям Ю. Новикова и полагая, что их реализация требует выхода за пределы сравнительного анализа текстов отдельных сказителей, мы все же убеждены, что сопоставительное исследование «учеников» и «учителей» не исчерпало своих возможностей и, во всяком случае, может служить первым этапом более широких («региональных») исследований.
3
Сопоставление текстов сказителей К. Романова, Т. Иевлева, Т. Рябинина, от которых записывали П. Рыбников и А. Гильфердинг, с подключением текстов нескольких других певцов, позволяет сделать вывод об их родстве и допустить, что они усвоили соответствующие былины от одного «учителя». Согласно признаниям этих певцов, таким «учителем» был Илья Елустафьев. Сведения о нем как замечательном знатоке старин зафиксировали в свое время П. Рыбников и А. Гильфердинг.
По словам первого, память о Елустафьеве «и теперь (т.е. в 60-е гг. XIX в. — Б.П.) сохранилась в Кижской волости. Был он первый сказитель в целом Заонежье и во всей Олонецкой губернии. Знал он несчетное множество былин и мог петь про разных богатырей целые дни. Заонежане любили слушать его и д|же платили ему за сказывание. Соберется, бывало, сходка, мужики и говорят: “А ну, Илья Елустафьевич! Спой-ка нам былину”. А он наместо ответит: “Положи-тко полтину, я и спою былину”. Тут кто-нибудь из богатых выложит ему полтину, и станет Илья Елустафьевич сказывать» [Песни, собранные..., 1989, т.1, с.59].
Можно, пожалуй, усомниться в достоверности рассказа о плате за пение былин Ильей Елустафьевым (в 60-е гг., во всяком случае, заподозрить олонецких сказителей в меркантильном подходе к своему искусству было нельзя). Вероятно, и слова о «несчетном множестве былин» — преувеличение, но несомненно — Елустафьев был выдающимся, прославленным сказителем. Живые подробности о нем зафиксировал А. Гильфердинг. Вероятно, со слов Т. Рябинина он записал, что Елустафьев был «бедным стариком с Волкострова, дер. Шлямин- ской, который, “откачнувшись” от своего сына, ходил <...> по волостям и пропитывался тем, что “ладил” (т.е. мастерил) и чинил всякого рода сети для рыбной ловли. Этот Илья Елустафьев (умерший тому назад лет 40, девяноста лет от роду) знал очень много былин и певал их за работой» [Онежские былины..., 1950, т.2, с.1]. Последние свидетельства превращают
И. Елустафьева из фигуры легендарной в личность вполне типичную для заонежской сказительской традиции.
По сведениям, полученным П. Рыбниковым, И. Елустафь- ев был «главным наставником Рябинина», «и знание свое оставил, кроме Рябинина, Козьме Романову и сыну своему Иеву. От этого Иева Ильина несколько былин перешли в наследство внуку Ильи — Терентию Иевлеву» [Песни, собранные..., 1989, т.1, с.59]. П. Рыбников же добавил, что «и теперь еще живы другие ученики Ильи Елустафьева» [Там же, с.60].
Если имена «учеников» Елустафьева были названы уже П. Рыбниковым и подтверждены А. Гильфердингом, то вопрос о самом «ученичестве» и о наследии Елустафьева, усвоенном его преемниками, нельзя считать сколько-нибудь проясненным. Из утверждения П. Рыбникова о Елустафьеве как «главном наставнике» Т. Рябинина позднейшие авторы безоговорочно объявляли Трофима Григорьевича учеником легендарного сказителя и через него возводили рябининскую традицию к XVIII в. Между тем уже А. Гильфердинг внес в это утверждение существенную поправку. По его словам, «Рябинин многое от него (Елустафьева. — Б.П.) “понял”. Между прочим, он научился былинам про Илью и Калина царя и про молодца и худую жену». Странно, что собиратель ограничился упоминанием лишь двух сюжетов. Еще более существенно то* что
А. Гильфердинг записал дальше, несомненно — со слов самого Т. Рябинина: «В 1812 году он поступил в работники в дом своего дяди Игнатия Иванова Андреева (в дер. Гарницы), который, по словам его, был самым лучшим певцом во всем крае и превосходил даже Елустафьева. Тут же жил и зять Игнатия Иванова, Василий Софронов Сарафанов (отец нынешнего сказителя Сарафанова <...>), и был тоже мастер петь былины. От Игната Иванова Рябинин “понял” наибольшую часть своих былин, именно про Вольгу, Илью и Соловья Разбойника, Илью, узнающего свою дочь, Дуная, Потыка, королевичей из Крякова и Скопина. Былины про Добрыню в борьбе со змеем и про Добрыню в отъезде с Василием Казимировичем он узнал еще ранее того от крестьянина Ивана Агапитова Завьялова, в Гарницах, которого слышал в детстве (Завьялов, по словам Рябинина, умер почти 70 лет тому назад); про Дюка он научился от старика Ивана Кокойкина, жившего до 100 годов; про Ивана Годиновича от крестьянина Федора Трепалина из дер. Мигуров: у обоих последних (Кокойкина и Трепалина) ему случилось по временам бывать в работниках» [Онежские былины..., 1950, т.2, с. 1—2].
Получается, что документально зафиксированы источники 13 былин из репертуара Т. Рябинина. Из текстов, записанных
А. Гильфердингом, неидентифицированными остались: «Илья Муромец в ссоре с Владимиром», «Добрыня и Маринка», «Хо- тен Блудович», «Сорок калик», «Горе». Сборник П. Рыбникова добавляет еще десять сюжетов. На фоне всего этого пестрого по составу и происхождению (в значительной части вообще не установленному) материала ссылки на Елустафьева утрачивают свое принципиальное значение. «Главный наставник» значит, может быть, «первый», определивший интерес и направленность мастерства Т. Рябинина, но никак не основной источник его былин.
Вопреки этим фактам В.И. Чичеров включает Т. Рябинина в число сказителей, которые «сохранили в своей памяти как елустафьевскую традицию» 19 старин [Чичеров, 1982, с.29]. В ходе анализа былин сказителей, причисляемых им к школе Елустафьева, В.И. Чичеров нечасто обращается к рябининским текстам — и всякий раз, чтобы обратить внимание на их своеобразие. Отличия от текстов К. Романова и Т.Иевлева он объясняет творческой работой сказителя: в одних случаях Т. Рябинин якобы детализирует формулу, «только частично сохраненную Романовым и Иевлевым»; в других — «эпизирует» «вопросы <...> звучащие схематично» у Романова; в третьих — сохраняет «сравнительно полно» формулу медленно текущего времени; в четвертых — «вносит ряд изменений во вторую часть былины» («Добрыня и Алеша») — осложняет композицию «эпической обрядностью». В итоге о былине «Добрыня и Алеша» говорится, что Т. Рябинин сохранил елустафьевский текст «творчески осмысленный и дополненный», «осложнил» не только его, но «и самый сюжет и образы былины» путем вплетения его в сюжет «Добрыня и Василий Казимирович».
Стремясь как-то посчитаться с личными свидетельствами Т. Рябинина о других «учителях», В.И. Чичеров полагает, что в одном случае сказитель соединил два извода былины — елустафьевский и завьяловский, а в другом — речь должна идти о близости текстов Елустафьева и Завьялова [Там же, с.37—44]. Не естественнее ли было бы допустить, что Т. Рябинин «понял» соответствующие былины не от Елустафьева, а от других певцов, названных у Гильфердинга? Но тогда едва ли не большинство соображений о серьезном творческом развитии Ряби- ниным елустафьевской эпической традиции остается в сфере зыбких предположений. И уж конечно же, рябининские тексты не могут служить сколько-нибудь надежным материалом для реконструкции елустафьевских изводов. В этом смысле ббль- шие результаты дает сопоставление текстов К. Романова и Т. Иевлева. На основании его можно представить очертания былинных сюжетов в их основных слагаемых, в наборе и последовательности эпизодов, как они выглядели у «учителя», характер разработки отдельных мест у «учеников», подбор типических мест и формул. Однако главным направлением сопоставительного анализа мы считаем не путь «назад», к вероятному тексту «учителя», а «вперед» — к его модификациям у «учеников». И здесь обнаруживается поразительная картина, как из одного и того же «извода»'возникают реакции, которые — при сохранении (и то неполном) общей сюжетной канвы и отдельных мотивов, повествовательных и стилистических элементов — представляют собой тексты, не просто изобилующие расхождениями, но содержащие нередко различную трактовку сюжетных моментов, альтернативные ходы, «свои» характеристики и, что особенно бросается в глаза, «свою» последовательно выдержанную стилистику. В.И. Чичеров в своем анализе нескольких текстов К. Романова и Т. Иевлева демонстрирует и схождения, и расхождения, но при этом довольно настойчиво хочет убедить читателей, что за этими расхождениями кроются свои позиции «учеников», их сознательная или бессознательная работа с воспринятой традицией. Что касается заключений автора, будто К. Романов «сохранил схему елуста- фьевского извода», а Т. Иевлев — «текст, эффектный в отдельных частностях» и — в более Принципиальном плане — что К. Романов сохранил елустафьевские реакции «без привнесения творческой мысли, меняющей и совершенствующей вариант» [Там же, с.ЗО], то они кажутся мне необоснованными и уводят от осознания исключительной сложности процессов усвоения Сказителем «чужого» и формирования «своего».
В.И. Чичеров оставил в стороне былину о Дунае, известную нам в записях, сделанных от К. Романова и Т. Иевлева дважды — П. Рыбниковым и А. Гильфердингом. Между тем сопоставление их дает очень много. Нетрудно убедиться, прежде всего, что в двух исполнениях, разделенных порядочным промежутком времени, тексты обоих сказителей сохранились без изменений. Это позволяет подходить к ним, не боясь чрезмерного влияния «одномоментности» записанных вариантов, с доверием к их стабильности. Сопоставление не подтверждает взгляда В.И. Чичерова на К. Романова как на сказителя, лишенного творческого начала и даже якобы не всегда хорошо воспринимавшего текст «учителя». В ряде мест романовский текст превосходит иевлевский и, уж во всяком случае, ему не уступает в своеобразной поэтичности, эпической выдержанности, стилистической изощренности. При этом у нас нет каких- либо оснований все эти достоинства относить на счет елуста- фьевского извода. Напротив, можно смело утверждать, что оба сказителя достаточно далеко отошли от него в конкретной стилистической (и даже отчасти мотивской) разработке сюжета. Загадкой остается — каким образом этот отход произошел. Слышали ли оба сказителя — независимо друг от друга — «Дуная» в других исполнениях и кое-что (не одно и то же) восприняли от них? Или просто — реализовали, каждый по- своему, свои знания былинной топики, стилистики, свое владение фондом общих мест и формул? Я склонен допустить и то и другое. Сопоставительный анализ позволяет утверждать, что ни тот ни другой не запоминали елустафьевский текст в его конкретной исполнительской реализации, но «поняли» его сюжет, последовательный ход событий, переняли ряд выражений, формульных описаний — но не буквально, а, так сказать, усвоили их модели, которым придавали собственные формы реализации.
Показательно, что совпадений в описаниях, в изложении типических мест, даже в кратких формулах почти не встречается. В отличие от В.И. Чичерова, делавшего упор на план содержания, я первостепенное значение придавал плану выражения. И здесь как раз оба мастера сходились редко. Но сами схождения показательны: развивая кажцый по-своему какой- нибудь пассаж, они приходили к общему его завершению, и общность эта, несомненно, возвращала их к елустафьевскому изводу. Иногда же, напротив, какой-то пассаж начинался одинаково (или почти одинаково), чтобы тут же продолжиться по- разному. Оба сказителя словно бы синхронно держались каких-то опорных моментов извода, но отходили от них, давая волю своей (конечно же, весьма относительной) свободе, своим знаниям и умению использовать их в процессе исполнения. Встречаются, наконец, и случаи, когда фрагмент извода почти
полностью сохранен, но оттенки в его изложении не позволяют сказать о степени близости этого изложения к изводу. Ограничусь здесь одним примером. Литовскому королю сообщают о бесчинствах, которые творит на дворе спутник Дуная:
Романов (у Гильфердинга): Иевлев (у Гильфердинга):
Ай же ты батюшка король хороброй Уж ты батюшка король хороброй
Литвы! Литвы!
Ешь ты, пьешь, утешаешься, А ты ешь да пьешь, спотешаешься,
Над собой невзгодушки не ведаешь: А ты над собой незгодушки не знаешься,
На дворе детина не знай собой, А как есть-то детинка не знам собою,
Во левой руке два повода добрых коней, Во левой руке водит Два добра коня,
А во правой руке дубина сарацинская; А во правой дубина сарацинская.
Как быв ясный сокол попурхивает, Как ясной сокол по двору попурхивает,
Так тот добрый молодец поскакивает, А ведь так-то он по двору поскакивает,
На все стороны дубиною размахивает, На все стороны дубиной помахивает,
И убил татар до единого, Так прибил-то всех татар до единого,
Не оставит-то татар на семена Не оставил он татар теби на семена
[Онежские былины..., 19S0, [Онежские былины..., 1950,
т.2, № 94]. т.2, № 102].
Кроме первого стиха, в пассаже нет ни одного буквального совпадения. Разница — в порядке слов, в построении одних и тех же фраз, в глагольных формах, в употреблении частиц и местоимений. Единственное значимое расхождение: «два повода добрых коней» — «водит два добра коня».
Пример показателен: оба мастера трансформируют конкретное изложение на свой лад, видимо, не столь уж далеко отступая от источника (который и сам по себе мог быть вариационным), но и не повторяя его слепо. Очевидно, они строили цитируемые строки по моделям, им близким, соответственно оформляя их грамматику и не очень обновляя стилистику. Гораздо чаще, однако, то, что я назвал трансформацией изложения, заходило гораздо дальше, касалось образной стороны, мо- тивской конкретики, выбора типических мест и формул, стилистики стихов. Отмечу несколько таких случаев.
При встрече Дуная Литовский король спрашивает:
У Романова: У Иевлева:
«Скажи, скажи, Дунай, не утай собою,
Куцы ты поехал, куцы путь держишь, «Ты куда едёшь, куда путь держишь? Нас ли посмотреть, али себя показать,
А у нас ли пожить, а еще послужить?» А ты нам послужить или себя показать?»
В тексте Романова — очевидный след существенного мотива: прежней службы Дуная у Литовского короля. У Иевлева след этот размыт. Самое главное — мотив этот у Романова всплывает и звучит в полную силу в эпизоде встречи Дуная с богатыркой-дочерью короля:
«Что же ты, Дунаюшка, не опознал?
А мы в бдной дороженьки не езживали,
В одной беседушки не сиживали,
С одной чарочки не кушивали?
А ты жил у нас ровно три году:
Первый год жил ты во конюхах,
А другой год ты жил во чашниках,
А третий год жил во стольниках».
У Иевлева ничего этого нет, и Дунай встречается с короле- вичной впервые.
Рискну предположить, что сказитель, знавший мотив прежней службы Дуная и его интимных отношений с королевской дочерью, вряд ли отказался бы от него или забыл бы его. Скорее всего, в елустафьевском изводе этого мотива не было и Иевлев поэтому не знал его, а Романов усвоил его от какого-то другого сказителя.
Большие расхождения находим во второй части былины, в таких ключевых эпизодах, как хвастовство Дуная на свадебном пиру и состязание молодых. В варианте Иевлева Дунай заявляет о себе как о лучшем стрелке в Киеве, и Настасья предлагает ему труднейшее состязание:
«Кто положит на головушку колечко серебряно И наставит напротив колечка нож булатныий,
И отступит назад-то пятьсот шагов,
И будет он стрелять из луку каленого,
И пропущать будет эту стрелочку каленую По острею ножовому,
И попадать будет в колечко серебряно».
Далее Настасья выполняет свою стрельбу успешно, а когда Дунай готовится стрелять, она умоляет его отложить выстрел.
В варианте Романова Дунай хвастает по-другому:
«Во всем городе во Киеве
Нет такого молодца на Дуная Ивановича:
Сам себя женил, а другй подарил».
Естественно, что и ответ Настасьи несколько иной; она противопоставляет Дунаю других киевских богатырей: Добры- ню Никитича — «на щапленьице», Алешу Поповича — «на смелость», и, наконец, себя — «на выстрел».
«А стреляла я стрелочку каленую,
Попадала стрелкой в ножечнбй острей.
Рассекала стрелочку на две половиночки,
Обе половинки ровны пришли,
На взгляд ровнаки и весом ровны».
Далее — Настасья стреляет успешно, а Дунай трижды промахивается; это вызывает у него гнев, он намерен расправиться с Настасьей, а та умоляет пощадить ее. Не столь эффектная разработка мотива у Романова, может быть, восходит к елуста- фьевской: дело в том, что словам Настасьи о киевских богатырях и о себе предшествуют два стиха:
«А и не долго я в городе побыла,
А много в городе признала».
Эти стихи вполне органично повязаны с последующими. Те же два стиха (чуть в другой форме) есть и в речи Настасьи в варианте Иевлева, но здесь они оказываются вне контекста и выглядят как след утерянного пассажа, т.е. как остаток елуста- фьевского извода.
Наконец, о мотиве мольбы Настасьи о пощаде. У Романова он развернут, наполнен редкими по эмоциональной насыщенности и поэтической силе подробностями, у Иевлева — почти скомкан. Сохранил ли Романов полный елустафьевский извод или обогатил его переносом из чьей-то другой версии — в любом случае монолог Настасьи принадлежит к жемчужинам русской эпической поэзии и квалифицирует Романова как выдающегося мастера.
Тут Настасья ему смолилася:
«Ай же Дунаюшка Иванович!
Лучше ты мне-ка-ва пригрози три грозы,
А не стреляй стрелочку калену.
Первую грозу мне-ка пригрози:
Возьми ты плеточку шелковую,
Омочи плетку в горячу смолу И бей меня по нагу телу;
И другую грозу мне-ка пригрози:
Возьми меня за волосы за женские.
Привяжи ко стремены седельному,
И гоняй коня по чисту полю;
А третью грозу мне-ка пригрози:
Веди меня на улицу крестовую И копай по перькам во сыру землю...»
Вариант Т. Иевлева начинается лишь со стиха: «Копай-ко ты меня до пояса в сыру землю», и дальше он также ле столь полон.
Романов
И бей меня клиньями дубовыма, И засыпь песками рудожелтыма, Голодом мори, овсом корми,
А держи меня ровно три месяца,
Иевлев
И бей ты меня по нагу телу,
Прости-тко меня в женской глупости, Не убей-ко меня, Настасьи-королевичной, Не сдепай-ко двух головушек неповинныих:
А дай мне-ка черево повыносити, Дай мне младенца поотрбдити, Свои хоть семена на свет спустить. У меня во чреве младенец [есть] ,
Такого младенца во граде нет:
По колен ножки-то в серебре,
По локоть-то ручки в золоте,
По косицам частыя звездочки,
А в теми печё красно солнышко!
Есть у меня во чреве с тобой дитятко
посеяно,
По локоть ручки в золоте,
По кблен ножки в серебре,
По косицам у него часты звезды,
На всякоёй на волосиночке По скачоноей по жемчужинке.
Сзади-то его печет-то светил месяц,
От очей-то пекёт да солнце красное.
Можно допустить, что в этом пассаже у Романова есть несколько пропусков, восполняемых текстом Иевлева, пусть уступающем первому в целом. Эпизод расправы
Романов
На эти он речи не взираючись,
И спущает стрелочку каленую
Во Настасьины белы груди * Пала Настасья на головушку.
Иевлев
Ничего-то Дунаюшко да не последовал, Разгорелось его сердце молодецкое, Да натягивал он стрелочку каленую, Подмазывал он салом тым змеиныим, Да наставил он Настасьи во белы груди, Да тут Настасьи смерть щйпила.
Финал
Тут сам ён на свои руки посегнулся. Где пала Дунаева головушка, Протекала речка Дунаева река,
И где пала Настасьина головушка,
Взял Дунаюшко Иванович востро копье, Поставил востро копье во сыру землю тупым концом, А вострым концом себи да во белы груди, Тут Дунаюшко на свои руки посягнул:
Где протекла Настасья река,
Протекала речка Настасья река. Тут протеки и Дунай-река
Тут Дунаюшку и славу поют.
Полный извод плана содержания может быть восстановлен из двух вариантов.
Для уяснения существа расхождений между текстами двух сказителей былина о Дунае важна в том отношении, что в ней довольно много эпизодов, ситуаций, которые требуют, так сказать, индивидуального, специального для этой былины набора текстовых пассажей, «переходных» мест и формул: это встреча Дуная с литовским королем, поездка богатыря по следам богатырки и поединок с нею, столкновение на пиру и поединок, его исход. Сошлюсь здесь на Ю. Новикова, который для надежного выявления схождений и расхождений между родственными вариантами предложил опираться не на «типические» места, а на «нестандартные композиционные элементы — оригинальные эпизоды, мотивы и их постоянные всевозможные подробности изложения» [Новиков, 1992, с.6]. Это — своеобразные индикаторы, тем более эффективные, чем сильнее они отклоняются от известных стереотипов.
Коль скоро у Романова и Иевлева — наряду с общими трактовками — встречаются довольно существенные расхождения, мы вправе заключить, что в их текстах отразился не только елустафьевский, hq и чей-то другой извод (может быть, и не один). По-видимому, мы здесь сталкиваемся с типичным случаем: сказитель-мастер — сознательно или бессознательно, — формируя свой текст на базе впервые услышанного или принадлежащего учителю, не ограничивается усвоением его одного, но дополняет, обогащает за счет других, «понятых» им редакций. Он также выпускает в тексте «учителя» отдельные места. Мы не знаем точно, были ли в елустафьевском изводе мотивы, связанные с прежней службой Дуная в Литве, но раз они есть у Романова и отсутствуют у Иевлева, значит — либо первый взял их из текста другого сказителя, либо второй опустил их. То же самое относится к пассажу о мольбе Настасьи о пощаде.
Что касается разночтений, относящихся к общебылинному фонду, то они, на мой взгляд, вполне объясняются различиями в наборе типовых мест и выражений у певцов, их умением и желанием применять их, наконец, — тем, что я бы назвал «инерцией повествования». У Иевлева выезд богатырей из Киева изложен в трех стихах:
А седлали, уздали добрых коней,
Да и поехали ко матушке к каменной Москвы,
А каменной Москвы, к хороброй Литвы.
У Романова же дана эффектная картина:
И скоро оны выедут со города со Киева,
Скоро садились на добрых коней;
Видли добрых молодцев сядучись,
Не видли добрых молодцев едучись.
Быдто ясные соколы попурхнули,
Так добрые молодцы повыехали.
Описание совершенно необязательное, но употребляемое по инерции и вполне к месту. Скорее всего, Романов извлек его из каких-то своих запасов.
В рассматриваемых текстах встречаются места, которые по разным причинам не получили законченного формульного выражения и оказываются для певцов некоторым камнем преткновения. Обычно дело сводится к грамматически и стилистически неловким формулировкам. Дунай оставляет Добрыню на королевском дворе, предупреждая, что, возможно, он позовет его на помощь или что возникнет необходимость быстрого отъезда. Ни Романов, ни Иевлев не справились с изложением этого места, хотя явно искали необходимую формулу.
У Романова: У Иевлева:
Какова мне-ка будет, так тебя позову, Какова пора, каково время,
А каково бы время, так приуехать бы. Чтобы можно нам оттоль да поехати.
У обоих сказителей попадаются изредка выражения и формулы, так сказать, редкие, может быть даже уникальные, о встрече с богатыршею.
У Романова:
Где было татарина так доезжать,
Где было татарина копьем тарыкать,
Так с татарином промолвился:
«Стой ты, татарин, во чистом поле,
Рыкни, татарин, по-звериному.
Свистни, татарин, по-змеиному!»
Рыкнул татарин по-звериному,
Свистнул татарин по-змеиному:
Темные лесы роспадались,
В чистом поле камешки раскатывались,
Травонька в чистом поле повянула,
Цветочки на землю повысыпали,
Упал Дунаюшка с добра коня.
У Иевлева:
Где было к татарину молчком подъезжать, Где было татарина копьем торыкать, —
Так ведь ён со татарином промолвился: «Скажи, татарин неверный!
Куда ты едешь, куда путь держишь?» —
«Да тут крыкнет татарин по-звериному,
Да как свистнет татарин по-змеиному,
Да как тут у Дунаюшка конь-то сполбхался, Сполохался да на коленка пал...»
4
Когда мы пытаемся выяснить отличия текстов «учеников» от извода их «учителя», не располагая текстами последнего, наши наблюдения неизбежно принимают гипотетический характер. Другое дело, когда тексты «учителя» и «ученика» сохранились. Благодаря работе собирателей 20—50-х гг. в нашем распоряжении есть некоторый материал, позволяющий ставить проблему преемственности сказительского искусства на достаточно прочную основу. В этом направлении уже немало сделано [Былины Севера, 1938, т.1; 1951, т.2; Путилов, 1966; Гацак, 1971, 1989; Черняева, 1976а, 1977; Чичеров, 1982; Новиков, 1992 и др.], однако резервы есть еще немалые. Достаточно сказать, что даже не произведен полный (по имеющимся публикациям) учет текстов, связанных отношениями «учитель—ученик». Оставляя эту работу на будущее, ограничусь конкретными наблюдениями, которые, впрочем, могут иметь и более широкое значение. В сопоставлении текстов я продолжаю придерживаться принципа: не существует «мелочей», которыми можно пренебречь ради «значительных» содержательных элементов; в схождениях и расхождениях важны данные на всех уровнях — от общесюжетного до уровня отдельного стиха и лексемы.
Результаты сопоставительной работы других авторов позволяют утверждать, что тексты «учеников» и «учителей» дают широкий спектр соотношений с точки зрения их близости и масштаба различий.
Так случилось, что среди сопоставлявшихся мною текстов выделились два случая, о которых можно говорить как о крайних позициях в таком спектре. Первый случай связан с творчеством пудожского сказителя Г.А. Якушова. Участники экспедиции братьев Соколовых записали от него в 1926—1928 гг. 37 былин. Ко времени знакомства с ними ему было 63 года. По его собственным словам, былинам «научился он у своего деда по матери <...> Потапа Трофимовича Антонова», от которого записи делались как П. Рыбниковым, так и А. Гильфердингом. «Вторым учителем был знаменитый Никифор Прохоров, известный под названием Утка», от которого производились записи Рыбниковым (1860), Гильфердингом (1871), Харузиной (1889) и местным учителем Лесковым (около 1906 г.). «Третьим учителем Якушова был Иван Фепонов, крестьянин этой же деревни» [Онежские былины, 1948, с.69].
Мы никогда не узнаем по-настоящему, Какой смысл заключался в словах о трех учителях. Ведь учиться былинам — вовсе не значит просто перенимать их, запоминать, заучивать и т.д. Для этого у северных сказителей был термин «понял»; «понял» — значит, перенял, услышал и воспринял от кого-то. Но «научился» — конечно же, имеется в виду нечто более широкое, охватывающее целый комплекс слагаемых, связанных с искусством оказывания былин. Это означает, в частности, многократное, длительное, систематическое слушание «учителей» и через это слушание, а может быть и беседы с учителями, — вживание в эпический мир, овладение эпическим языком, искусством былинного эпоса и, что главное, искусством собственно складывания былинных стихов и былинного целого по ходу исполнения, искусством «нанизывания» их один за другим и создания большого цельного текста.
Разумеется, обучение сказительству не может не быть связано с усвоением реальных текстов. Г. Якушов, учась у трех названных сказителей, «понимал» от них былины, складывая собственный репертуар, во всяком случае, — его основное ядро.
Сопоставление текстов Якушова с текстами его учителей (не столь универсальное, как хотелось бы), а также знакомство с комментарием В.И. Чичерова к их публикациям позволяет сделать некоторые предварительные выводы.
- 37 сюжетов Якушова (среди них классических былин — 27) соответствуют 19 сюжетам, записанным Рыбниковым и Гильфердингом от трех сказителей. Интересно; что нет ни одного сюжета, который был бы зафиксирован у всех трех учителей. У двоих зафиксировало 8 сюжетов.
- В.И. Чичеров, комментируя тексты Якушова, ограничился отсылками 17 из них к соответствующим текстам: к прохо- ровским — в девяти случаях, к фепоновским — в шести, к антоновским — в двух. Кроме того, дважды он отослал к текстам Т. Рябинина, дважды же — к сорокинским и к текстам Шальс- кого лодочника (от него записывал Рыбников), один раз — к романовскому. Тем самым круг вероятных источников якушов- ских былин оказался расширенным.
- Проверка чичеровских отсылок в ряде случаев порождает сомнения, поскольку тексты Якушова и предполагаемые изводы обнаруживают недостаточно схождений, особенно в плане выражения. Так, невозможно возвести якушовского «Долмана Долмановича» к антоновскому «Сухману» — ничто не объединяет их, кроме сюжетной схемы и нескольких отдельных мо- тивских параллелей. То же самое — относительно былин «Илья Муромец и голи кабацкие» (Якушов) и «Илья в ссоре с Владимиром» (Прохоров), «Соловей Владимирович» (Якушов) и «Соловей Будимирович» (Прохоров), «Илья Муромец и Соловей разбойник» (Якушов и Фепонов), «Илья Муромец и Елена Ко- ролевична» (Якушов) и «Последняя поездка Ильи Муромца» (Фепонов), «Добрыня и Змей» (Якушов и Фепонов), «Ботыса Батыгович» (Якушов) и «Василий Игнатьевич и Батыга» (Фепонов), «Два литничка» (Якушов) и «Наезд литовцев» (Фепонов).
Очевидно, чтобы прояснить картину взаимоотношений Якушова со своими учителями, как они отложились на уровне текстов, нужны скрупулезные сопоставления — и, конечно же, как в плане содержания, так и в плане выражения.
Начнем с П. Антонова. Рыбников и Гильфердинг записали, к сожалению, немного — в совокупности семь сюжетов, в том числе повторных записей оказалось четыре: «Добрыня и Алеша», «Василий Игнатьевич и Батыга», «Соловей Будимирович», «Смерть Чурилы». «Дублированные» записи содержат столь значительные расхождения на всех уровнях, что впору было усомниться, действительно ли эти записи сделаны от одного сказителя. Былина «Добрыня и Алеша» в рыбниковском варианте [Песни, собранные..., 1989, т.2, № 160] начинается с того, что богатырь просит у матери благословения на отъезд. В варианте Гильфердинга [Онежские былины..., 1949, т.1, № 65] этому предшествует конспективно излагаемый эпизод женитьбы Добрыни на Настасье Микуличне. Здесь же мы находим обширную «вставку» (стихи 61—209): Добрыня отправляется в сопровождении Михаила Потыка в поле, после сна Потык усматривает чужеземного богатыря (описание его напоминает Сокольника из былины «Илья Муромец и сын»); Добрыня хочет послать своего товарища прогнать чужеземца, но тот из страха отказывается, и тогда Добрыня направляется сам. Сначала он уничтожает «силу поганую» из окружения нахвалыцика, затем вступает в поединок с ним самим и после троекратной стычки на копьях, палицах и саблях убивает его. В варианте Рыбникова этому обширному пассажу соответствует несколько стихов:
По чистому полю прогуляется И не может дождаться никакого воина,
Никакого воина к себе и богатыря.
Далее следуют различия порядка вариантных или, иногда, редакционных. Согласно второй записи, первая попытка сватовства Алеши вызывает со стороны Настасьи отказ; проходит шесть лет, князь Владимир приносит ложную весть о гибели мужа, й Настасья вынуждена согласиться на брак. Не откажу себе в удовольствии процитировать это место, выразительно характеризующее стилистическое мастерство Антонова.
А я был Владимир на чистом поли,
Видел Добрынюшку убитого,
А лежит убит Добрыня на чистом поли,
А ён ножкамы лежит вдоль дороженьки,
Буйной головой лежит во ракитов куст,
А ён ручкамы лежит о сыру землю,
Сквозь его ребра травка выросла,
Расцвели цветочки лазуревы.
Это тут Настасья призадумалась:
«Я не знаю сама своей головушки,
А сама своей головушки подёвати А меня не в честь берут, как неохвотою,
А и силою меня берут, неволею».
Затем повествование возвращается к Добрыне, и следует эпизод поединка его с богатырем Золотой Орды. Эпизод этот напоминает первый поединок и возвращает нас к сюжету «Илья Муромец и сын»: Добрыня побеждает соперника, но, узнав, что он из Золотой Орды, отпускает его да еще просит свезти подарок матушке; золотоордынский богатырь («король»)
возвращается, боясь, что над ним будут смеяться и называть «заугольником», пытается убить спящего Добрыню, а тот, пробудившись, убивает его со словами:
«От кого ты, чадо, ты зачато было,
От кого ты, чадо, ведь посеяно,
От того ты, чадо, нынь кончайся-тко!»
[Онежские былины..., 1949, т.1, стихи 359—361].
В варианте первом после эпизода с отказом Настасьи и слов: «Так Владимир нынь отступается / И времени того дожидается» следует эпизод встречи Добрыни с иноземным богатырем. Он изложен схематичнее и без заключительных слов, выдающих отношения отца и сына.
Эпизоды возвращения Добрыни домой, встречи его с матерью, прихода на свадебный пир, узнавания, примирения с женой и расправы с Алешей изложены в обоих вариантах по одной версии, но совершенно в разной стилистической манере и с многочисленными расхождениями в деталях. В отличие от первого варианта, где изложение довольно схематично и местами даже небрежно, второй вариант дает развернутое описание и содержит ряд безупречных формул.
Я не склонен относить ряд преимуществ второго варианта на счет постепенного совершенствования сказителем своей версии. Вкрапление эпизода с Михаилом Потыком и первым поединком кажется совершенно необоснованным и случайным. Некоторые места в первом варианте изложены лучше. Что существенно — в стихах варианты почти нигде не совпадают. Складывается впечатление, что П. Антонов владел двумя (по крайней мере) версиями, которые свободно (невозможно, всякий раз с переменами) исполнял. П. Рыбников и А. Гиль- фердинг по счастливой случайности зафиксировали две версии. Сколько их было — можно только гадать. Скажу сразу: вариант «Добрыни и Алеши» у Г, Якушова ничем не напоминает варианты П. Антонова, разве только не менее странной контаминацией трудно согласуемых сюжетов да противоречивыми вставками, но совсем иного сюжетного плана.
По иному выглядят отношения между двумя вариантами антоновской былины «Василий Игнатьевич и Батыга» [Песни, собранные..., 1989, т.2, № 161; Онежские былины..., 1949, т.1, № 66]. Изложение сюжета в них до определенного момента идет по одной схеме, и в отдельных пассажах, а особенно в
стихах, много совпадений. Однако в плане выражения преобладают расхождения: внутри стихов, в их порядке, в наличии и отсутствии, в употреблений формул и их элементов. Ограничусь несколькими примерами.
У Рыбникова:
Из-под тоя березки из-под беленькой Выходило два тура и три тура...
А жил тут был богатырь добрый молодец... Ставал тут Владимир поскорешенько...
И наливал чару зеленого вина...
Так же Василий приотправился Со своим орудием военныим...
А соколу лететь на меженный день,
А маленькой птицы Не перелететь... Что ни лутчие богатыри поразъехались,
А виноватый в сей час ко Батыге на
лицо,
А на имя Василий Игнатьев сын. Садился Василий на доброго коня Со той военной орудией,
Клал стрелочки в подзолоточки,
Тугие лука во налучия.
Он луки во наметы полагал,
И брал копье свое бурзамецкое И саблю свое девяносто пуд.
И едет Василий, помахивает,
С горы на гору конь его поскакивает,
С холмы на холму конь его поплясывает,
Реки-озера межу ног пущал,
Синя моря около скакал.
Хвост по земли расстилается,
А грива под копыта подвивается,
Искра с ноздрей рассыпается,
Огненное пламя распаляется, Огненным щитом обороняется.
У Гильфердинга:
Выходило, выбегало два тура, три тур!..
Жил-то был голь кабацкая...
Приказал князь Владимир стольне-
киевской Наливать ему чару зелёного вина... (Этим стихам здесь соответствуют 13 стихов: седлание коня, снаряжение и
поездка.)
Соколу лететь на упрягу ему, Маленькой птице натешиться.
Едет Василей ко Батыги на лицо.
На своем кони он на доброём
И на том седли на окованноём,
Реки-озера межу ног пускал,
Сини моря ён околб скакал,
На горы высоки выскакивает, Хвост по земли расстилается, Грива под копыта подвивается,
Огненный пламень вымахивает, Тым луком калёным выстреливает, Вострым копьем он помахивает,
От того копья как от вострого,
От той от палицы военный На Батыгу страх да уклоняется.
Вариант Рыбникова завершается описанием бегства Батыги. О завершении былины свидетельствуют заключительные стихи, не относящиеся к сюжету, один из так называемых ис-
ходов — с шуточными характеристиками разных регионов и городов. Во втором варианте неожиданно за «исходом» повествование продолжается: следует рассказ о преследовании Василием Батыги и уничтожении его вместе с его «последней силой», о возвращении богатыря к Владимиру и о княжеском пире в честь победителя.
Вариант Г. Якушова принадлежит к той же версии сюжета о Василии Игнатьевиче и Батыге, что и антоновский, но он довольно краток, излагает эпизоды часто схематично и с пропусками, хотя в текстах обоих сказителей есть близкие стихи.
В.И. Чичеров, однако, дает отсылку к варианту И. Фепонова.
В былине «Соловей Будимирович» в антоновских вариантах различий мотивского характера совсем мало. Отмечу лишь один: во втором тексте Соловей, осудив Забаву за самопросва- тывание, советует ей вернуться к князю и просить его устроить пир. Жених является на пир и отсюда ведет Забаву в церковь. Кроме того, второй текст завершается «исходом» в восемь стихов.
Однако в самом изложении сюжета преобладают разночтения — уже знакомого нам характера.
Таким образом, очевидно, что П. Антонов не имел не просто затверженных, но даже и просто стабильных текстов, разнообразил исполнение вариантами, легко варьировал стихи, не придерживался жестко выработанных формул, свободно включал и изымал отдельные пассажи и т.д. При всем том его исполнениям была присуща выдержанность эпического стиля.
Если Г. Якушов неоднократно слушал своего учителя, то должен был убедиться, что ни одна исполняемая им былина не имеет устойчивого текста, не повторяется и что, следовательно, невозможно былины заучить, а надо усваивать их содержание, последовательность повествования, овладевать эпическим языком, фондом формул в их вариативности и умением в ходе исполнения «выбирать» все это для построения стихов.
Собственно, сопоставление репертуаров двух сказителей позволяет возвести к антоновскому изводу только якушовский текст былины «Чурила и Катерина» [Онежские былины, 1948, № 22; Онежские былины..., 1949, т.1, № 67; Песни, собранные..., 1989, т.2, № 162].
Сколько-нибудь серьезных мотивских расхождений в них не обнаружено. В двух текстах П. Антонова изложение содержит многочисленные расхождения в подробностях. Совпадаю
щих стихов всего около 30, стихов сс легкими расхождениями — около 40. Основная же масса стихов дает разночтения, значимые для восприятия былины в ее конкретной поэтической материи и свидетельствующие опять о вариационных возможностях сказителя. Вот несколько примеров формульной синонимии.
У Рыбникова:
«Что же ты, Кирила, вечор не бывал?»... Приводила во гридню в столовую... «Во сырую ю землю, Вельада, клонишься...» Приходит ко конюшни стоялыя...
Поворот сделал к Катеринушке...
У Гильфердинга:
«Что же ты, Чурила, не пожаловал?» И провела его в палату браную...
«До мосту ты, Вельма, поклоняешься...» Приходит Вельма ко конюшенки,
Ко той ли ко стойлы лошадиныи... Поворот держал на ручку на правую...
Варьируются состав и полнота описательных пассажей*
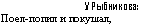 У Гильфердинга: У Гильфердинга:
Поел-то, попил как Чурилушка,
Из-за стола выходит дубового,
С-за тыи за ествы сахарнии,
С-за того питья за медяного,
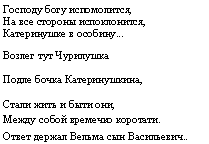 Господу богу поклонится, Господу богу поклонится,
На все стороны он поклоняется, Катерину да ён в особину...
Лег тут спать как Чурилушка,
Лег тут спать да сын Попленкович, Подли его-то Катеринушка Да подли бочкй дочь Микулична.
Оны стали-то жити-то быти оны, Межу собою времечки коротати...
Он кинул головушку межу плечью, Утупил ясны очи в калинов мост,
Сам сговорил таково слово...
Это тут Катеринушка,
Это тут дочь она Микулична,
Крику ёна испугаласи,
Крику сама перепаласи, Выходила-выбегала Катеринушка Бежит она как в одных чулках,
В однех чулках да без чеботов, Да без черныих бежит без чеботов,
В одной тоненькой мягкой рубашечки, У ней женские волосы растрепаные, У ней женскии волосй растрепаныи,
Нежная грудь у ней показаная, У ей нежна грудь бел! показаная.
Белое лицо у ней намазаное.
В некоторых случаях П. Антонов менял местами отдельные пассажи либо переставлял стихи внутри них. Так, в первом варианте в самом начале описывается нарядное одеяние Чурилы.
В соответствующем месте второго варианта этого описания нет, но оно всплывает далее, в словах Чурилы, обращенных к Катерине. При этом описание не совпадает с первым вариантом. В диалоге Вельмы с Катериной порядок нарушен и текст варьирует в деталях. Пять стихов в описании кровати, на которой лежит Чурила, во втором варианте даны в таком порядке по отношению к первому: 2-й, 3-й, 5-й,Ч-й, 1-й, причем перестановка оказывается вполне допустимой.
В конечном счете оба варианта равноценны, и тот и другой обладают своими преимуществами и недостатками. Их можно рассматривать как однократные реализации некоего общего знания и считать расхождения в них вполне случайными.
Текст Г. Якушова, естественно, не возводим к одному из двух вариантов П. Антонова. В ряде случаев явственна зависимость от первого варианта. Так, описание наряда Чурилы дается в начале, однако оно сокращено наполовину. В то же время текст Г. Якушова следует второму варианту в перестановке внутри диалога Вельмы и Катерины. Вообще же очевидна тенденция — при сохранении сюжетной канвы и основных эпизодов в рамках антоновской версии — к самостоятельному изложению, к воссозданию собственных стихов, к отходу от фор- мульности «учителя».
Вот несколько выразительных примеров.
Антонов (у Рыбникова): Якушов:
Приводила во гридню столовую, Проводила Чурилушко Пленковича
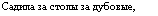 А во ту ли во горенку во новую... А за ты ли за столики дубовые, А во ту ли во горенку во новую... А за ты ли за столики дубовые,
За тыя за ества сахарние За тыя за питья медвяные...
А за ты ли за скатерки шелковые, А за ты ли есьва сахарный,
А за ты ли за кушанья медвяный.
(В варианте Гильфердинга в первом стихе — «...в палату браную», в четвертом — «Наливала ёму...».)
Вот еще пример «своего» выражения, в котором вообще нет параллельных стихов с текстом П. Антонова.
У Якушова:
А сама с Чурилушкой спать легла.
А живет с Чурилой будто брат с сестрой,
А и спит-то с Чурилой будто муж с женой,
А он спит-то тут да забавляется.
В варианте Гильфердинга:
Лег тут спать как Чурилушка,
Лег тут спать да сын Попленкович,
Подли его-то Катеринушка,
Да подли бочка дочь Микулична.
Они стали-то жити-то быти оны,
Межу собою времечки коротати.
Иногда можно проследить, откуда возникает та или другая деталь формулы. «Забавляется» у Якушова пришло из доноса служанки мужу Катерины (у Антонова: «Со твоей женой забавляется»; у Якушова повторяется ниже: «А твоя-то Катя забавляется»). Такого рода наблюдения приоткрывают нам завесу над психологическими факторами варьирования.
Вот еще:
Антонов (у Рыбникова): Якушев:
У теих воротичек колотится, У воррт-то он колотится,
У теих воротец давается. У ворот-то он заложается,
На фатсру Вельма да сам давается.
Здесь «давается» перенесено на другой предмет.
Несколько примеров формульной синонимии внутри стихов.
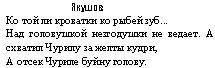 Антонов (у Рыбникова): Антонов (у Рыбникова):
Ко той ли кроватки тисовенькия...
Над собой ли незгодушки не ведает...
Взимал поскорешенько саблю вострую Со той ли со стопки со точеныя,
Отсек он Чирилы буйну голову.
Обращают на себя внимание случаи уплощения описаний, когда опускаются развернутые в изводе эпизоды, сворачиваются подробности, многостиховые пассажи заменяются одним— двумя стихами. «Лишними» оказываются обмен этикетными обращениями Катерины и Чурилы, диалог служанки и Ведьмы: исчез эпизод посещения Вельмой конюшни; нет ряда деталей в описании Катерины в момент ее встречи с мужем, в эпизоде расправы Вельмы с Чурилой. Вся заключительная часть былины (мотив женитьбы Вельмы на служанке и финальные стихи) у Якушова сведена к трем суховатым стихам:
А ведь эту девку замуж взял,
А и стали жить да добра наживать,
А и теперь они ведь да хорошо живут.
Характерен случай, когда у Якушова формульная ситуация передана в полном виде: в тексте Антонова Вельма видит шап
ку и «лапотцы» Чурилы; в тексте Якушова к ним добавлено еще «платьице цвётное».
Очевидно, что текст былины у Якушова — создание сказителя на основе слышанного не раз исполнения Антонова. Не будем при этом забывать, что текст этот для нас — такой же одномоментный, как и «дубли» Антонова или Романова. Жаль, что у нас нет повторных записей якушовской былины.
Теперь обратимся к текстам Г. Якушова, которые, по-видимому, восходят к прохоровским. По наблюдениям В.И. Чичерова, таких текстов — 9. Мы ограничимся сопоставлением двух сюжетов — «Илья Муромец и сын» и «Добрыня и Алеша». Перед этим, однако, дадим характеристику творческой манеры самого Прохорова. П. Рыбников и А. Гильфердинг записали от него семь одних и тех же сюжетов. Это позволяет выяснить отношение сказителя к своим текстам. С одной стороны, видно, что Прохоров сохранял «свои» редакции сюжетов, не внося в них существенных перемен. С другой стороны, в изложении он допускал множество разночтений мотивского, композиционного и описательного характера.
В былине «Илья Муромец и сын» они особенно заметны в первой части. В варианте Рыбникова [Песни, собранные..., 1989, т.2, № 118] Илья, услышав Соловникова, выкликающего себе поединщика, тут же отправляется в поле и вступает в борьбу с нахвальщиком. В варианте Гильфердинга [Онежские былины..., 1949, т.1, № 46] повествование идет строго по канонам киевских былин: князь Владимир, услышав вызов Соловникова, собирает богатырей; является Илья, спрашивает князя, что случилось, князь пересказывает ему ультиматум Соловникова, Илья едет домой, собирается в поход и отправляется в поле.
Перёд нами случай уплощения текста, который — при сокращении целого пассажа — искусно «сшивается» без допол- нительньк стихов. «Взаимные» пропуски отдельных стихов довольно часты, можно даже заподозрить сказителя в некоторой небрежности. Например, он пропускает третий удар Ильи в голову соперника, но при этом сохраняет картину последствий его:
Как тут за тым еще Соловником Речист язык тут да мешается,
А мозги в головы потрясаются.
В варианте Рыбникова этому предшествует: «Ударил Со- ловникова в буйну голову». Зато в этом же варианте вопросы Ильи к поверженному сопернику повторяются лишь дважды* а в варианте Гильфердинга — трижды, что, конечно, соответствует эпической норме. В тексте Гильфердинга вообще нормативность в соблюдении «парности» стихов, приведении стихов «дополнительных» соблюдается более последовательно. Далее в примерах стихи, отсутствующие в варианте Рыбникова, даются в угловых скобках.
Как ударил он Соловника в голову <А палицей своёй богатырскою. >
«Да полно е да нам биться-ратиться,
<А лучше мы еще, доброй молодец,
Опустимся мы нунь со добрых коней,>
Станем нунь бить рукопашкою».
Как тут-то ведь спускались оны с добрых коней <А на тую-то матушку сырую землю,
Пошли-то оны биться рукопашкою. >
Ударил-то ведь в сутыч да во шею-то,
< Молода ударил он Соловника. >
Когда начал ты ведь нунь выспрашивать,
<Когда начал нунь ты ведь выведывать...>
Как сели тут оны, поели, попили, покушали,
<Белый лебёдушки порушали...>
Справедливости ради стоит отметить, что в нескольких местах ситуация с «парными» и «дополнительными» стихами обратная.
В варианте Рыбникова:
Туг Илья и спать-то лег, <Спать-то лег во белой шатер. >
Как прибегал ко младому Соловникову, <Хватил его за желты кудри.>
Что касается уровня отдельных стихов, то здесь картина вовсе неожиданная: на текст былины (155 стихов в варианте Рыбникова и 238 — Гильфердинга) совпадающих стихов — немногим больше двадцати.
- Перестановки соседних стихов.
У Рыбникова:
Наезжает из далеча из чиста поля Молодой-младой Соловников
У Гильфердинга:
Наезжай молодой младой Соловников А з-за того за славна за синя моря.
(Здесь же — различия в формуле места выезда.)
Занес он свою праву руку, Занес-то ножище-кинжалище...
Ай же ты сын мой возлюбленный, Молодой-младой Соловников!
А выдернул ножищо сам кинжалищо, Занес тут Ильюшенька праву руку... Ах ты молодой младой Соловников, Да ах же ты ведь сын мой любимыий.
2. Различия в объеме формул.
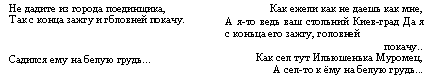
3. Формульная синонимичность.
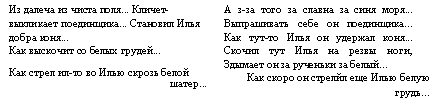
4. Мелкие словесные перемены внутри стихов.
А все с одного разу пбшибал...
Мозги в голове у него потрясаются,.. Ударил меня в буйну голову...
Как Илья был свычен, догадлив был.
Заскочил он, обскочил окол его...
А батюшка не знаю, кто есть...
Был-то у него крест на белой груди, Весом крест в полтора пуда...
Хватил его за желты кудри,
Как бросил о матушку сыру землю... Рассек он его на мелкие часточки.
А с одно ведь-то разу я все поши-
бал...
А мозги в головы потрясаются...
А бьет-то меня нунь в буйну голову...
А свычен-то Ильюшенька, догадлив
он,
Как скоро обскочил на окол ёго...
А ведь батюшка не знаю я, какой-то
был...
Как был тут у Ильи да золот крест,
А золот крест он был три пуда есть...
Хватил-то он Соловника ёго за желты
кудри,
Как бросил тут его он о сыру землю...
Рассек его на четыре на часточки.
Характерно, что в таких стихах часто сохраняются одни и те же слова и формы в конце, что, конечно, связано с осознанием певцами значимости «организованного» завершения стиха.
Как видно, Прохоров сохранял сюжетную канву былины, хотя при разных- исполнениях некоторые эпизоды и детали
могли опускаться или уплощаться. Наибольшему варьированию подвергался план выражения. Кажется, не было формулы, какую сказитель сохранял бы жестко, он без труда варьировал их, меняя порядок слов, глаголы, грамматическое время, формы слов; мог передать формулу в усеченном или развернутом виде, один стих развертывал в парные или тройные и т.д.
При построении стиха Прохоров не боялся вводить в него ради поддержания ритма незначащие частицы (ведь, да, тут, то). Нередко он «нарушал» нормы синтаксиса, отчего стих получался корявым («Отца ли ты есть да царевич был» — неудачная попытка соединить в одном стихе два вопроса: «коего отца?» и «царевич ли?»).
Понятно, что Якушов, слушая Прохорова, не мог заучивать его тексты, он должен был привыкнуть к вариативности как существеннейшей особенности знания и исполнения былин, напитаться ощущением ее, возможностями ее применений и овладеть фондом формульности и нормами эпической грамматики. Эпическое знание не могло лежать мертвым грузом, оно должно было всякий раз «оживать» в ходе исполнения, подсказывая исполнителю решения для отдельных стихов, пассажей, мотивов и былин в целом.
Учась у сказителя, столь свободно оперировавшего с текстами, Якушов и сам проникся этим чувством свободы, в частности — в отношении к наследию Прохорова, им усвоенному.
Обратимся к былине «Илья Муромец и сын». При сопоставлении якушовского текста [Онежские былины, 1948, № 4] с двумя прохоровскими приходится считаться с тем фактом, что в действительности Якушов слышал не только известные нам два варианта. Всякий раз возникает сомнение — является Ли расхождение «новшеством» Якушова или оно восходит к исполнению «учителя». Дело, однако, в конечном счете, не в степени «оригинальности» «ученика», но в том несомненном факте, что его тексты не повторяли текста любого исполнения Прохорова, а возникали путем свободного «сотворчества».
Разночтения начинаются с первых стихов:
А приехал тут от з&морья От заморья да Соловников.
Соответственно в варианте Рыбникова:
Наезжает из далеча из чиста поля Молодой-младой Соловников
В варианте Гильфердинга:
Наезжай молодой младой Соловников А з-за того за славна за синя моря.
К тому же у Якушова отсутствуют два начальных стиха:
Да на наше на село на прекрасное,
На стольнёй-от город наКиев-град.
В ряде случаев якушовские пассажи и формулы являют примеры альтернативных или синонимических решений. Вот показательный пассаж:
Прохоров (у Гильфердинга):
Как тут уж князь стольнё-киевской А шел-то он на выходы высокии,
А закрычал он князь во всю голову: «Да ой же вы русийски все могучии богатыри!
А подите-тко на думушку великую А стольнёму-то князю к Володимеру».
Якушов:
А туг как сделалась тревогушка великая, Собирал князей-бояр да всех сильниих, Всих как сильниих да всих могуциих, Всих как сильниих могучиих да всех богатырей, Полениць как да видь удалыих.
А сходилисе, да съезжалисе
Все как сильнии могучии богатыри,
Поленици вси да видь удблыи,
А во Киев тут да во славный град,
А ко тому ли ко князю ко Владимиру.
То же на коротких участках текста.
А Ильина-то слава не минуется, Отныне-то век по веку поют его,
Ильюшеньку.
Прохоров (у Рыбникова): Желтые кудерка не сворохнутся...
Не знаю, какой невежа наехал из чиста поля,
Ударил меня в буйну голову.
«Ты скажи, скажи, не утай себя,
Ты коей орды, ты коей земли,
Ты коего отца, коей матери?»
А Ильи-то славы не минуется,
А покамест-то белый свет да ведь то- перь стоит.
Якушов:
Волосиночка да не зворохнется...
А какой-то невежа видь похвасталсе
Отрубить-то мни видь буйну голову. «Ты какой орды да какой земли?
Как тебя, молодец, да именем зовут?
А звеличают тя да по отечесьву?»
(Далее вопросы: «Царь ли, царевич, король ли, королевич?» повторяют вариант Гильфердинга, но тут же есть дополнение:
А стихарь-то ты да дьяковскиих?
Али грозный посол ты лихоличий есть?)
Не спрашивал бы у тебя ни имени, ни Я не спрашивал ни роду у ти, ни пле-
изотчины. мени.
Крест в полтора пуда Был как крест да ведь золоцёныи,
(В варианте Гильфердинга: Золот А семи фунтбв с половиною,
крест... три пуда)
Занес тут Илыошенька праву руку. А как замахнется да старый казак Илья
Муромец...
Ударил-то ведь в сутыч да во шею-то, А ударил-то ведь Соловника в заты-
лочок,
...Как сбил тут ёго да на сыру землю. А упал Соловников да на сыру землю,
А на матушку да мураву траву...
Как начал тут Ильюшенька доспра- А ведь стал-то он тогда да выспрашивать, шивать,
Как начал тут Ильюшенька выведы- А ведь стал-то ума да он отведывать.
вать.
В редких случаях варианты Якушова можно счесть за «поправки» к соответствующим местам Прохорова.
Прохоров (у Рыбникова): Якушов:
Полно нам биться и ратиться, А давай-ка мы с тобой да биться-ра-
титься,
Пойдем-ка мы биться рукопашкою. А давай-ка мы с тобой да на кулачный
бой.
«Поправка» имеет основание, потому что до этого никакой «рати» не было — Илья бил Соловника по голове палицей. В заключение отмечу одно дополнение к краткой характеристике матери Соловника у Прохорова.
«Я той бабы да от Латыницы,
От тоёй я поляницы от удалоей,
А меня ведь называют зауголышем,
Заугольпием да подуголышем А не могу я славушки той слышати,
А не видал отца я родного,
А какой не знаю отец-то был».
Этот пассаж принадлежит к другой, чем прохоровская, версии сюжета. Кстати сказать, его нет вообще в текстах пудожских певцов. Не исключено, что Якушов воспринял его откуда- то со стороны. И финальных стихов у Прохорова тоже нет:
«А от кого дитя да зародилося,
А от того дитя да подавил осе»
[Онежские былины, 1948, № 4].
Былину «Добрыня и Алеша» Якушов безусловно перенял у Прохорова — об этом свидетельствует не только единство повествовательной канвы, но и совпадение в контаминации: сюжет «Муж на свадьбе своей жены» соединен с сюжетом «Поединок и братание Добрыни с Алешей».
Сопоставление текстов показывает, однако, что буквальных совпадений нет ни в одном стихе, хотя близких по изложению стихов немало. Расхождения можно свести к некоторому числу типовых.
- Возможно, что иногда Якушов просто дает прохоровские варианты в их полном виде, не сохраненном в исполнении, зафиксированном А. Гильфердингом [Онежские былины..., 1949, т.1, № 49].
«А неси-тко ты гусёлышки яровчагы,
А гусёлышки со пбгребов да со глубокиих,
А гусёлышки яровчаты во сорок пуд».
Последнего стиха в соответствующем месте у Прохорова нет, но он вполне мог быть, поскольку появляется в следующем пассаже, описывающем, как мать приносит гусли.
- Сохраняя формулы Прохорова, Якушов варьирует их элементы.
Прохоров (у Гильфердинга): Якушов:
Повел он по гусёлышкам яровчатым... Заиграл-то он в гусёлышка яровчаты... «Не тот-то ведь муж мой, кой подли А не тот мой муж, который возли
меня...» бок!..
- Сохраняя опять же формулы Прохорова, Якушов перестраивает их по-своему и предлагает вариант их изложения.
«А у моёго у милого у дитятка «Если б был-то мой да сын-то есть,
Была-то ведь знйдёбка родимная, У моего сынй, у чада у милого,
А был-то на головки рубечёк-то есть». На головке был да рубёцёк ведь,
А р^бецёк, да родна была знадёбка».
- Якушов находит свои выражения и формулы для передачи адекватного содержания.
Идет она старушка попирается, А несет старуха подпёраетсе,
Подават Добрынюшки гусёлышка... А приносит ведь Добрынюшке Ми-
китицю:
«А возьми-ко ведь гусёлышки яров, чаты»...
Приходил Добрыня на почесгный пир, По народу-то идет, как по травы бредет, А на то столованьё на великоё... Только весь народ да развигалси.
Клонится Добрыни, поклоняется, А через столичка перескочила ведь,
Сама она ёму извиняется. > Падала Добрынюшке нбги зй ноги.
- Прохоровским «одинарным» стихам у Якушова соответствуют «парные» и «тройные», отчего изложение становится более традиционным.
Как разгорелось ёго сердце богатырское... Там в шатре да ествы-ты разложены...
«Налейте мне-ка чару зелена вина».
Как все оны туг приослушались... Коим перстнём оны обручалися...
- «Дополнительные» стихи чения или оттенки.
Как тут еццит Ильюшенька, сам думает: «А й это есте русьскии богатыри,
Где ни-то дерутся оны, ратятся».
«Ах же ты удалой доброй молодец!
А что ты над старушкой надсмехаешься?»
А тут этот Олёшенька Попович он Уехал он безвестно, не знают где.
Разгорелоси сердецько да богатырьскоё, Раскипелась кровь да богатырьская... Медовы питья были да ведь разлажены, Были ествушки да всё сахарние,
Были кушанья да все ведь медвяные... «Дайте-ко мне чару зелена вина,
А другую чару пива пьяного,
А ведь третью-то чару да меду сладкого»...
А на пиру-то ведь как вси ослухались, А на пиру-то ведь да вси заслухались.
А которым перстнём обвенчалисе,
А которым перстнём обручалисе...
вносят и дополнительные зна-
Говорит Илья, да воспроговорит:
«А ведь бьется тут да не поган! Литва, А бьются тут ведь сильнии богатыри да
русьскии. А если б билась бы да поган! Литва,
Не могла бы тут троих суток безутыш-
но ведь,
Безутышно она биться-ратиться»...
«Ай же вы голи вы кабацкие,
А городовские да ведь посадские,
А как было у меня да чадо милое, Молодой Добрынюшка Микитинец,
То не дал бы голю насмехатисе,
Над старухой да над староей»....
А уехал Олешенька да безивестно ведь, А от той беды да от того-то ведь,
От того-то ведь от сра.му от великого.
- По крайней мере в одном случае «дополнительное значение» превращается в новый мотив.
У Прохорова Василиса Микулична объясняет Добрыне, что, исполнив его и свою заповедь,
«А тожно ведь я тут замуж пошла А за того Олешку за Поповича».
У Якушова жена объясняет, как случилось, что она поступила вопреки запрету мужа.
А не пошла бы я ведь [в] замужесьво —
Сватали со князем со Владимиром, —
Выжили б из города из Киева,
А надо б было волоцитисе,
А надо б было скитатитьсе.
А ведь дали бы пашпорты волции,
А мни видь ходить-волоциться — ту не хоцитъсе, —
А пошла за Олешку Поповиця».
У Прохорова об участии князя в сватовстве упоминается вскользь:
Как начал тут Олешенька подхаживать А со тыим со князем со Владимиром.
У Якушова же слова жены получают подтверждение в эпизоде повторного сватовства Олеши: он подговорил Владимира, и тот пригрозил Настасье.
- Якушов уплощает изложение ситуации, находя для нее свои формулы.
Прохоров: Якушов:
Выскакал тут Добрыня со добра коня,
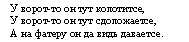 Насыпал коню тут пшены белояровой, Насыпал коню тут пшены белояровой,
А скоро сам он шел по новым сеням,
Заходил в свою во горенку во новую,
А крест он кладывае по-писаному,
Поклон-то уж вел по ученому,
На вси тут на четыре сторонушки,
А родной своёй матушки в особину:
«Ай здравствуй-ко моя ты родна матушка».
Показательно, что далее в обоих текстах повествование идет синхронно — пример того, как сказители могут подходить к одним и тем же ситуациям разными путями.
Трудно говорить о преимуществах того или другого текста: моментами Якушов превосходит Прохорова, но и примеров обратного порядка достаточно. Материалы одного исполнения не дают точной картины, поскольку сказители этого типа, обладая обширным эпическим знанием, на практике, по-видимому, совершенные образцы его реализации дают нечасто. Прозаизированные стихи, уплощения, пропуски стихов, перестановки, формульная синонимия и т.д. — все это вполне естественно для обоих певцов, это входит в характеристику их искусства.
В заключение дополним наши наблюдения существенными соображениями Ю.А. Новикова относительно текстов Г. Якушева. Он замечает, что в лучших былинах Якушова, идущих от прохоровских изводов, есть отдельные мотивы, знакомые по текстам Антонова. Вместе с тем былины Якушова вообще тесно соприкасаются с местной эпической традицией и находят много общего в вариантах былин других пудожан.
«Все эти факты свидетельствуют о том, что Г. Якушов <...> не упускал случая встретиться с известными певцами, послушать новый вариант той или иной былины <...> Учитель не был для Якушова непререкаемым авторитетом, он не стремился к точному воспроизведению его вариантов и нередко вводил в свои былины (не всегда, впрочем, удачно) поразившие его художественные образы, отдельные эпизоды и мотивы из текстов других исполнителей» [Новиков, 1984, с.62].
Среди приводимых на этот счет примеров один особенно впечатляет: в былине «Ссора Ильи с Владимиром» содержатся мотивы, «восходящие к четырем разным источникам» [Там же, с.63].
5
Сопоставим наши наблюдения и выводы с теми, что представлены исследованиями последнего времени. Здесь стоит прежде всего обратиться к работам Н.Г. Черняевой. Заметим сразу же, что в них уделено пристальное внимание выделению основных уровней структуры былинных текстов, и анализ предпринят по этим уровням. Принципиальное значение имело утверждение Черняевой, что, собственно, и процесс обучения, запоминания былин происходил как бы по этим же уровням: «Единицы былинного текста, их сочетаемость, границы между ними существуют объективно и отражают особенности запоминания» [Черняева, 1980, с. 102]. Эти уровни (по восходящей): былинная строка, былинная строфа, былинная тирада (три нижних), былинный сюжет и композиция (два высших). Вслед за мною,Черняева особое внимание обращает на былинную строку как «основную единицу былинного текста» и, одновременно, «первоэлемент усвоения и воспроизведения былинных текстов» [Там же, с. 103].
Для сопоставительной работы над строками Н. Черняева предлагает считать «совпадающими» те, для которых «характерны один и тот же былинный денотат и тождественное либо синонимическое лексическое и синтаксическое выражение. Две строки сопоставимы и совпадают, если они имеют одну общую былинную лексему и тождественность или синонимичность синтаксических конструкций» [Там же]. В этом последнем пункте я расхожусь с Н. Черняевой, полагая, что такое понимание совпадающих строк правомерно при исторических, генетических, семантических поисках, но слишком вольно при изучении процессов усвоения «учеником» текста «учителя». Правда, практически автор не очень следует этому расширительному условию, выделяет типы варьируемых элементов в строке и в «таблицу усвоения и воспроизведения строк» включает 12 типов — классифицируя их в зависимости от замены одной, двух, трех и более лексем на синонимичные и увеличений и уменьшений соответственно на то же число.
Само же сопоставление на уровне совпадающих и несовпадающих строк у Н. Черняевой направлено на то, чтобы выявить по крайней мере три слагаемых работы эпической памяти певца: ориентацию на конкретные единицы текста, импровизационные способности, склонность к моделированию. Сказитель-ученик «ориентируется не только на конкретные строки текста учителя, он использует и другие возможности: строки из других вариантов того же сюжета учителя (и учителей, если их несколько, а также других сказителей, которых он мог слышать), общий запас былинных строк (эпическое знание в целом), модели. Строки, построенные по моделям, имеют структурно-смысловые аналогии в былинных текстах» [Там же, с. 106].
Конкретный анализ — с применением статистических данных по его результатам — позволил Н. Черняевой установить два типа эпической памяти и соответственно соотнести с ними группы сказителей. Певцы 1-й группы «ориентируются преимущественно на конкретные строки учителя <...> При этом предпочтение отдается тем типам варьирования, которые обеспечивают максимальное приближение к строкам учителя <...> Сказители этой группы стремятся сохранить синтаксические конструкции строк учителя, изменяя их метрические характеристики. Несовпадающих строк относительно мало <...> Ничтожна и роль моделей при запоминании» [Там же, с.115—116].
С некоторыми колебаниями я мог включить в эту группу И. Калитина, хотя полного совпадения с первым типом в его отношении к текстам матери на уровне строк я не усматриваю (см. об этом с.231—235).
«Эпическую память сказителей 2-й группы <...> определяют в первую очередь несовпадающие строки <...> Сказители используют главным образом общебылинный запас строк и тот фонд былинных строк, который “обслуживает” варианты данного сюжета у других учителей и сказителей <...> Ощутима тенденция к импровизации: модели играют большую роль в построении строк <...> Совпадающие строки усваиваются по таким типам, которые способствуют максимальному отклонению от строк учителя» [Там же, с. 116]. В эту группу попадает Г.А. Якушов.
Те же две группы выделяются Н. Черняевой и в разделах, посвященных характеру усвоения и воспроизведения строф и тирад, композиции и сюжета.
Сказители первой группы «зачастую почти полностью повторяют строфы и даже тирады учителя» [Там же, с. 117]. Между тем приведенные примеры из текстов Д. Суриковой и ее сына Е. Сурикова не убеждают меня в этом «почти полностью»: конкретика соотношений — далеко не совпадающая, хотя зависимость очевидна. Кажется, попытка «упорядочить» типологию текстовых соотношений упирается в разнообразие конкретных случаев и скрывает до известной степени наличие достаточно существенных несовпадений и расхождений.
Более надежной представляется характеристика второй группы. «Г.А. Якушов тяготеет скорее к своеобразному соединению строк в строфы и тирады, нежели к конкретным единицам текста учителя», переформировывает «совпадающие строки», создавая «совершенно новые строфы». «В целом у сказителей этой группы преобладает стремление к относительно свободному конструированию строк в строфы и тирады» [Там же, с.120—121].
Относительно запоминания повествовательных элементов: «Сказители 1-й группы акцентируют внимание на конкретных единицах текста учителя — алломотивах (от 80 до 90% текста учителя, т.е. от 90 до 100% текста ученика)». «Число несовпадающих алломотивов невелико. Они возникают за счет использования алломотивов из общебылинного запаса, но чаще всего своим источником имеют другие варианты этой же былйны учителя, а также тех исполнителей, которые обучались у данного сказителя» [Там же, с. 121].
Во 2-й группе преобладает «довольно свободное варьирование», «усвоение набора алломотивов учителя колеблется от 40 до 60% их общего числа». «Заметно воздействие текстов разных учителей, но сказители следуют в основном одному источнику» [Там же, с. 125].
Я опускаю здесь ряд подробностей из типологического анализа Н. Черняевой, которые было бы желательно проверить на других примерах. Выделю еще некоторые обобщения, более или менее подтверждаемые и моими наблюдениями.
Словесная сторона эпических текстов оказывается «наиболее мобильной», в то время как сюжет и композиция «гораздо консервативнее», и исполнители «дорожат прежде всего сохранностью сюжета». План выражения «обладает большей подвижностью, изменчивостью, нежели план содержания» [Там же, с. 132].
И еще: «Каким бы ни был импровизаторский дар сказителя, в подавляющем большинстве случаев он творит в пределах и на основе эпического материала, используя его словарь и комбинаторные возможности в тех пределах, которые допустимы традицией» [Там же].
В другой своей работе Н. Черняева — в результате анализа текста сказительницы А.Ф. Трухавой, позволившего ей отнести исполнительницу к 1-й группе, — высказала еще одно принципиальное соображение: «По-видимому, ориентированность сказителей 1-го типа на текстовую конкретность, с одной стороны, позволяет им при благоприятных условиях воспроизводить тексты очень эпичные и стабильные, а с другой — лишает их творческой самостоятельности» [Русские эпические песни Карелии, 1981, с. 13].
Я бы, пожалуй, воздержался от последних слов. Творческое начало в сказительском искусстве исчезает, лишь когда утрачиваются его слагаемые в виде «эпического сознания», «эпического знания» и «эпической памяти». Сказитель, воспроизводящий тексты, не заученные наизусть, но усвоивший их благодаря действию трех названных компонентов, остается творчески самостоятельным независимо от степени собственного вклада в пропеваемый текст. Сам акт «воспроизведения в процессе исполнения» есть акт по сути своей творческий.
Предложенная в статье 1980 г. типология (два типа) не исчерпывает типологической градаций сказительства, исследованной Н. Черняевой. В своей диссертации она выделяет четыре типа, причем раздельно — в двух главах — рассматривает процесс передачи и процесс воспроизведения. Мы же объединим их. Тип первый соответствует уже известному нам типу. Из его характеристики в диссертации отмечу некоторые дополнительные моменты. Н. Черняева допускает для сказителей этого типа импровизацию, но она «ограничена пределами эпического запаса соответствующей былины учителя». Формированию этого типа способствует тип учителя и давняя и прочная семейная традиция. При усвоении былин от других сказителей «степень варьирования текста учителя повышалась». «При исполнении устойчивость всех уровней структурной организации текста повышалась по сравнению с периодом обучения» [Черняева, 1977, с.20]. Об особенностях этого типа обучения Н. Черняева писала и в одной из статей [1976а, с.31].
К типу второму относятся сказители с характерным вниманием «не только к конкретным текстовым единицам, но и к моделям». «Варьирование, как правило, происходит в пределах варианта учителя, иногда текст приобретает характер редакции» [Черняева, 1977, с. 16—17].
К типу третьему относятся сказители, которых А.М. Астахова определила как «рассказчиков». Они, по словам Н. Черняевой, «при обучении фиксируют в основном те сюжетообразующие мотивы, присутствие которых важно для повествования». Объем эпического знания у них ограничен, и былины в их исполнении «часто становились побывальщинами или простым, очень кратким пересказом» [Там же, с. 17].
Наконец, четвертый тип — сказители-импровизаторы: они «характеризуются ярко выраженным “грамматизмом” усвоения текстов учителя». Благодаря постоянному прослушиванию былин сказитель этого типа «обретал способность извлекать из текстов различные модели». Мастерски усваивая принцип «грамматической» организации текста, такой сказитель в своей «эпической памяти» фиксировал «только смысловые и структурные доминанты» [Там же, с. 18]. «Сказители не только кон- таминировали сюжеты, но и создавали целые комплексы нетрадиционных мотивов» [Там же, с.21].
Как ни странно, но я не могу ни одного из ярких представителей того типа, который Н. Черняевой в статье 1980 г. отнесен ко второму типу, зачислить в одну из четырех групп (особенно Г. Якушова). Классификация Черняевой — плод вдумчивого и скрупулезного исследования — действует пока что на ограниченном поле фактов: по каждому типу она может назвать несколько сказителей. Неясно, в какой мере эта классификация охватывает всю массу севернорусских сказителей. Во всяком случае, опыт Н. Черняевой, базирующийся на современных методологических принципах и продуманной методике, заслуживает поддержки и продолжения.
Ценность работ Н. Черняевой — в стремлении добраться до выявления закономерностей механизма усвоения (запоминания) и последующего исполнения (владения) былин «учениками». В центре ее внимания — проблема «эпической памяти», которая определяется как «способность сказителя отбирать, хранить и воспроизводить те или иные элементы эпического текста в их взаимосвязях друг с другом, в результате чего и рождается былина как целое» [Русские эпические песни Карелии, 1981, с. 10], Стремление поставить категорию «эпической памяти» в широкий социальный, бытовой, психологический и художественный аспект получило выражение в особенном внимании к «эпическому сознанию» как необходимому компоненту «обучения» и в соотнесении «обучения» с другим компонентом — «эпическим знанием». В итоге: «Обучение» эпическому искусству — «это процесс восприятия, усвоения и порождения эпических текстов при участии всех составляющих этого процесса: “эпического сознания”, “эпической памяти” и “эпического знания”» [Черняева, 19766, с.29—33].
.
Ваш комментарий о книге
Обратно в раздел языкознание
|
|