Библиотека
Теология
Конфессии
Иностранные языки
Другие проекты
|
Ваш комментарий о книге
Ильина Т. История искусств. Отечественное искусство
РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА
Искусство первой трети XVIII века
XVIII век – значительнейший период в русской истории. Реформы Петра касались не только экономической, государственной, политической, военной и общественной жизни, но также просвещения, науки и искусства. В это время шел процесс европеизации во всех областях русской жизни. Переход от Древней Руси к новой России, от средних веков к новому времени был многотруден, ибо задержался в России почти на триста лет и происходил при уже сформировавшихся новых формах жизни на Западе. За каких-нибудь 50 лет России во всех сферах пришлось пройти тот путь развития, какой на Западе длился 2–3 столетия. Это в полной мере касается культуры в целом и изобразительного искусства в частности. Отсюда и характерная его черта, которую одна из исследователей русского искусства – Н.Н. Ковалевская – назвала «спрессованностью» развития. Эта спрессованность при всем высочайшем уровне прошлой, древнерусской культуры, при уже канонизированном западноевропейском опыте породила в русском искусстве параллельное существование сразу нескольких стилевых направлений, несоответствие некоторых явлений культуры объективным условиям, определенные курьезы в процессе сложения новой культуры, «мирского» ее характера, особенно в первой трети столетия. Без учета этих особенностей, аналог которым трудно найти в западном искусстве, невозможно понять самую сущность русской культуры XVIII столетия. Только с середины века начинается уже более соответствующее общеевропейскому развитие искусства барокко, рококо, а затем классицизма.
В первой трети XVIII в., в так называемое петровское время, все эти противоречия и конфликты выступают в особенно обнаженном и обостренном виде.
Оценка русского искусства XVIII столетия в русском и советском искусствознании была очень неодинаковой. Уже в 40-х годах XIX столетия Н. Кукольник сетовал на то, что мы предали забвению свое прошлое и воспринимаем современное искусство как «пришелицу». Славянофилы в середине и второй половине XIX в. ругали искусство предыдущего столетия за отрыв от древнерусских корней. В. В. Стасов, выражая общую позицию демократической критики, видел в нем лишь выражение дворянской культуры, дворянских идеалов, порицал его за копиизм и подражательность, за «провинциальное повторение французской моды». Виолле ле Дюк вообще писал, что до XVIII в. русское искусство было поклоном Востоку, а с XVIII в. – Западу. И только в последней трети XIX столетия усиливается внимание к искусству этого периода, особенно мы здесь обязаны «мирискусникам». Это изучение началось еще с «Исторической выставки портретов известных лиц XVI–XVIII вв.» и трудов составителя ее каталога П.Н. Петрова, с устроенных «Миром искусства» выставок 1902 (Выставка русской портретной живописи за 150 лет, с 1700 по 1850 г.) и 1905 гг. (так называемая Таврическая, ибо состоялась в Таврическом дворце), с экспозиций русской портретной живописи в Париже и Берлине в 1906 г., с выставки «Ломоносов и елизаветинское время» 1912 г., с издания журнала «Старые годы», во многом посвященного именно искусству XVIII столетия (1907–1916). Однако и влюбленные в XVIII век «мирискусники» видели в художниках этого времени тоже лишь умелых подражателей западноевропейскому искусству.
Планомерное изучение XVIII века началось лишь в XX столетии. Конечно, многое погибло в огне революционных событий и Гражданской войны, многое (вспомним, что значительное количество произведений XVIII в. было создано крепостными мастерами и находилось в частных собраниях) вывезено за границу. Но основная часть богатой коллекции русского искусства XVIII столетия была собрана в государственных музеях (ГРМ, ГТГ, Останкино, Кусково и пр.), что, естественно, облегчает изучение этого периода. Скажем только, что уже в 1922 г. состоялась персональная выставка живописца Д.Г. Левицкого, произведения которого еще в начале века привлекали внимание исследователей. Советское искусствознание в понимании и оценке проблематики XVIII в. прошло и период эстетски рафинированной критики «мирискуснического» толка, и социологически-вульгаризаторской, идущей еще от школы Фриче, и период существования, так сказать, «чистой архиваристики», сбора фактического и фактологического материала, чтобы со второй половины 50-х годов прийти к необычайно насыщенному этапу, соединяющему разного характера исследования – от музейно-атрибуционных до обобщенно-теоретических. Так в общих чертах обстоит дело с вопросом изучения русского искусства XVIII столетия, во многом резко отличного от средневекового периода русской культуры, но и имеющего с ним глубокие внутренние связи.
Перелом в русском искусстве наметился еще в XVII в., это не вызывает сомнений. Но победу новое искусство одержало в начале следующего столетия. Русская светская культура поистине родилась под грохот петровских салютов, как и сама Россия, по меткому определению Пушкина, вошла в Европу при стуке топора и при громе пушек. Сам Петр как личность имел определенное влияние на формирование нового искусства. Воцарение на престоле того, кому суждено было стать первым русским императором, означало конец средневековья, конец ведущей роли церкви в общественной жизни, господства «древлего средневекового благочестия», истинный культ государственности и государственной власти. «Петр как исторический государственный деятель, – писал Н. Костомаров,– сохранил для нас в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему сердце; эта черта – преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в течение всей жизни. Он любил Россию, любил русский народ, любил его не в смысле массы современных и подвластных ему русских людей, а в смысле того идеала, до какого желал довести этот народ; и вот эта-то любовь составляет в нем то высокое качество, которое побуждает нас, мимо нашей собственной воли, любить его личность, оставляя в стороне и его кровавые расправы, и весь его деморализующий деспотизм, отразившийся зловредным влиянием и на потомстве. За любовь Петра к идеалу русского народа русский человек будет любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала, и ради этой любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его памяти» (Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. В 3 т. Ростов н/Д, 1998. Т. 3. С. 243). Печальное влияние событий юности на характер Петра сказалось в том, что в эту гениальную гигантскую натуру был заложен «зародыш жестокости и свирепости». Сама личность Петра – прекрасная иллюстрация к проблеме контрастов в жизни русских людей XVIII в.
Перелом в духовной жизни был много сложнее и совершался медленнее, чем в материальных сферах. Сложность нововведений Петровской эпохи видна и на насильственной во многом перемене быта, вторжении новой моды.
Петр посылает людей учиться за границу наукам, ремеслу и искусству. Он велит посланным отчитываться о виденном. И вот в дневниках тех лет мы находим записи о заграничной жизни, о том, как трудится анатом, «с членами человеческого тела работающий», как русский человек в Роттердаме участвует в диспуте, а в Амстердаме поражается тому, что ужинает в таком месте, где блюда подносят обнаженные девушки. Сам Петр интересуется многими вещами. Он знакомится с учеными, художниками, он проявляет такую профессиональную осведомленность, на которую многие затрачивают всю свою жизнь, и он же буквально «ошалевает» от радости при виде великана, которому серьезно думает найти в подруги великаншу и получить «великанье войско».
Стремление к объективному познанию мира, развитие наук, расширение книгопечатания, создание в конце петровского правления Академии наук – все это содействовало укреплению новой, светской культуры. Пафос познания, равно как и пафос государственности, пронизывает и изобразительное искусство. Гражданственное звучание его в петровскую пору несомненно. Манеры и стилевые приемы в русском искусстве петровской поры крайне разнообразны. Этот период, полный новых идей, образов, время появления новых жанров и незнакомых ранее сюжетов –результат во многом тесных контактов с самого разного уровня западноевропейскими художниками. Жизнь вносила свои коррективы в этот мощный поток разнообразных веяний. Это была эпоха поистине гигантских масштабов, когда представление о личности формировалось «по заслугам личностным», а не сословным (конечно, относительно, ибо в полной мере соблюдалось разделение на людей «именитых» и «подлых»). Русское искусство выходит на общеевропейские пути развития, отказываясь от средневековой замкнутости, но отнюдь не порывая с многовековыми национальными традициями.
Знакомство русских с европейским искусством происходило несколькими путями: западные художники приглашались на работу в Россию, европейские произведения искусства покупались за границей, а наиболее способные мастера отправлялись обучаться в заморские страны как пенсионеры, т. е. за государственный кошт. Первые посланцы –художники братья Никитины с М. Захаровым и Ф. Черкасовым – отправились в 1716 г. в Италию, Андрей Матвеев уехал в Голландию. Остальные, а их было большинство, оставались дома и обучались по старинке, в традициях Оружейной палаты, при Санкт-Петербургской типографии, при Кунсткамере или в других государственных ведомствах. С 1706 г. была организована Канцелярия городовых дел, переименованная в 1723 г. в Канцелярию от строений, которая заведовала всеми строительными работами в Петербурге и его окрестностях и объединяла всех находящихся на государственной службе так называемых казенных архитекторов и живописцев. Петр вынашивал план создания русской Академии художеств, разбирал предложенные ему Аврамовым, Нартовым и Каравакком проекты. Но самостоятельная Академия художеств при Петре организована не была. В 1724 г. император издал указ об учреждении «Академии, или социетета художеств и наук», и с 1726 г. при Академии наук, таким образом, существовало художественное отделение, в котором главное внимание уделялось рисунку и гравюре, чисто практическим задачам самого насущного характера. Лишь в 1748 г. художественное отделение было расширено до классов архитектуры, скульптуры, живописи и перспективы (перспективной живописи).
Изменения во всех областях жизни потребовали нового художественного языка во всех видах искусства. Новая конструктивная система создавалась и в архитектуре. В 1703 г. был заложен город, ставший столицей Российской державы. Построить город на болотах, в условиях трудной Северной войны было дерзкой, почти нереальной мыслью. («Самый предумышленный город на свете»,– сказал о нем впоследствии Ф.М. Достоевский.) Но строительство это было вызвано острой необходимостью, и оно осуществилось. Сам план города с его регулярностью и симметрией, с его параллельно-перпендикулярным устройством улиц, застройкой по красной линии был новым по сравнению с древнерусскими городами. Город возник сначала как крепость и порт, поэтому Петропавловская крепость и Адмиралтейство, окруженные укреплениями, были одними из первых построек. Все силы государства, без преувеличения, были брошены на строительство нового города. Это не значит, что в Москве совсем не велись строительные работы (вспомним здание Арсенала, Меншикову башню-церковь архангела Гавриила, частные дома вроде дома Гагарина на Тверской). Но истинным центром становится Петербург, через него осуществляется живая связь России с Западом. Москва же связывает Петербург с провинцией, в архитектуре которой еще долго в чистом виде живут старые традиции.
Центр нового города, справедливо получившего имя святого патрона его основателя, задуманный сначала на Петербургской стороне, вскоре был перенесен на Васильевский остров. Проект планировки Петербурга (1716) был разработан приглашенным Петром талантливым архитектором Ж.-Б. Леблоном (1679–1719). Но некоторая абстрактность замысла, а также сложность местного рельефа не позволили осуществиться этому проекту, хотя общий дух регулярности леблоновского проекта сохранился в петербургской архитектуре.
Свой образ Петербурга создавал опытный зодчий и строитель Доменико Трезини (ок. 1670–1734), по сути, главный архитектор города этого времени. Петропавловский собор, доминанта новой столицы,– одно из самых знаменитых сооружений и в наши дни (1712–1733, восстановлен в первоначальном виде после пожара 1756 г.), базиликальная трехнефная по композиции церковь, был завершен по плану Трезини в западной своей части высокой колокольней со шпилем. Колокольня представляет уже не привычный русскому глазу восьмерик на четверике, а единый, в несколько ярусов-этажей массив, напоминающий европейские колокольни или ратушные башни. Светский характер общего облика Петропавловского собора, простота образного решения, место сооружения в «контексте» городского ансамбля – все это определило принципиальную роль произведения Трезини в ряду других памятников петровского времени.

Трезини исполнил также Петровские ворота Петропавловской крепости (1707–1708 –сначала в дереве, а в 1717–1718 переведены в камень) в честь победы России в Северной войне. Для украшения ворот был приглашен скульптор Конрад Оснер Старший, изготовивший деревянный рельеф «Низвержение Симона-волхва» (перенесен позже на каменные). Ниши ворот украсили статуи Беллоны и Минервы, авторство которых приписывается Н. Пино. Д. Трезини принадлежит также здание Двенадцати коллегий (1722, закончено к 1742 г. при участии М. Земцова). Единое здание расчленено на 12 ячеек – «коллегий» (каждая с самостоятельной кровлей), соединенных единым коридором и галереями первого этажа, из которых до нашего времени сохранилась лишь одна. Пилястры, объединяющие два верхних этажа, придают цельный характер всему зданию.
При Петре было начато и совсем новое по своему назначению и по архитектуре здание первого русского музея – Кунсткамеры, которую, последовательно сменяя друг друга, строили Г.-И. Маттарнови, Н.-Ф. Гербель, Г. Кьявери и М.Г. Земцов (1718–1734). Завершающая здание башня предназначалась для астрономических наблюдений, большие двусветные залы с хорами во втором и третьем этажах –для естественно-исторических коллекций и библиотеки.
Из ранних построек Петербурга сохранился Летний дворец Петра в Летнем саду (1710–1714, Д. Трезини, А. Шлютер и др.), простое прямоугольное двухэтажное здание с высокой кровлей. Расположенный на берегу, у слияния Невы и Фонтанки, дом имел небольшой «гаванец» – бассейн, сообщавшийся с Фонтанкой и дававший возможность попадать в апартаменты прямо с воды. По фасаду Летний дворец украшен расположенными между окнами первого и второго этажей рельефами, исполненными А. Шлютером и его командой, на темы «Метаморфоз» Овидия. Летний сад («огород», как его называли в петровское время) с его скульптурами, фонтанами и гротами являет пример одного из первых регулярных парков в России. В 1725 г. М. Земцов построил в саду «Залу для славных торжествований» (не сохранилась).
Меншиковский дворец на Васильевском острове на берегу Невы (10–20-е годы XVIII в., Дж.-М. Фонтана и Г. Шедель, реставрирован в 60–80-е годы XX в.), представляет собой новый тип усадьбы. Она слагалась из нового каменного дворца, старого –деревянного, церкви и обширного регулярного сада позади новой постройки, простиравшегося до современного Среднего проспекта. Наряду с городскими усадьбами в этот период начинается строительство и загородных резиденций, прежде всего вдоль Финского залива: Екатерингоф, Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум.
Много внимания уделяется и строительству частных жилых домов. Канцелярией от строений, возглавляемой Трезини, по его и Леблона проектам намечается возведение с помощью деревянных каркасов с забутовкой из глины и щебня так называемых мазанковых зданий: двухэтажные, как правило, строились уже каменные. Дома дифференцировались (в основном по имущественному цензу), но в этих рамках были обязательными типами застроек, оттого и их обычное название «образцовые» (т. е. типовые). Они выходили фасадом уже не во двор, а на улицу и вместе с оградами и воротами создавали единую линию улиц и набережных. Так постепенно складывался Петербург: на болотах и многочисленных островах, испытываемый ветрами Балтики и наводнениями, расположенный вдали от старых русских центров, но неуклонно растущий, казалось бы, вопреки всякой логике. Не случайно, дивясь Петербургу, Дени Дидро высказался так: «Столица на пределах государства то же, что сердце в пальцах у человека: круговращение крови становится трудным и маленькая рана –смертельною» (цит. по: Божерянов К., Эрастов Г. Санкт-Петербург в Петрово время. К 200-летнему юбилею Санкт-Петербурга 1703–1903. СПб., 1903. Вып. I–III. С. 61). Центром города становится Адмиралтейская сторона, где от Адмиралтейской башни со шпилем тремя лучами отходили Невский и Вознесенский проспекты и возникшая несколько позже Гороховая улица.
Решительный переход от старого к новому, труднейший процесс усвоения в самый короткий срок европейского «языка» и приобщения к опыту мировой культуры особенно заметны в живописи петровского времени. Расшатывание художественной системы древнерусской живописи произошло, как мы видели, еще в XVII столетии. С началом XVIII в. главное место в живописи начинает занимать картина маслом на светский сюжет. Новая техника и новое содержание вызывают к жизни свои специфические приемы, свою систему выражения. Среди станковых картин, многочисленных монументальных панно и плафонов, миниатюр и т. д. предпочтительное место отводится портрету во всех разновидностях: камерному, парадному; в рост, погрудному, двойному. В портрете XVIII столетия проявился исключительный интерес к человеку, столь характерный именно для русского искусства (для русской литературы –в более поздний период, со следующего века). Уже в так называемой Преображенской серии портретов, которые долго было принято называть в науке портретами шутов, так как они исполнены с лиц, участвовавших в таком сатирическом «конклаве», как «Всепьянейший сумасбродный собор всешутейшего князь-папы», видно напряженное внимание к человеческому лицу (портрет Якова Тургенева), к реалиям быта («натюрморт» в портрете Алексея Василькова). И все-таки в понимании глубины пространства, лепки объема, анатомической правильности в передаче человеческой фигуры, светотеневой моделировки «Преображенская серия» лежит еще в системе предыдущего столетия. «Это последний, заключительный аккорд древнерусской живописи», – отмечает искусствовед Е. Гаврилова. Восемь портретов этой серии несомненно выполнены если не одной рукой, то, во всяком случае, вышли из одной живописной мастерской московской школы конца XVII в., свято чтущей живописные традиции Оружейной палаты.
Нужно было многое преодолеть, нужен был колоссальный творческий скачок, чтобы от этих портретов конца 90-х годов XVII в. прийти к никитинскому изображению Прасковьи Иоанновны 1714 г. – путь в действительности более длинный, чем реальные 20 лет.
Конечно, усвоению западноевропейского художественного языка способствовали приглашенные Петром иностранцы: Иоганн Готфрид Таннауер, приехавший в Россию в 1711 г., баварец, научивший мастеров приемам позднего западноевропейского барокко (портрет А.Д. Меншикова, 1727); Георг Гзель, швейцарец из Сен-Галена, художник скорее натуралистического, чем реалистического, направления, запечатлевший для нас раритеты Кунсткамеры, среди которых портрет знаменитого великана Буржуа – наивное изображение с не менее наивной надписью «сильной мужик»; наконец, марселец испанского происхождения Луи Каравакк (Лодовико Каравакк, как именуют его документы), «первый придворный моляр», создавший портреты всей царской семьи и познакомивший русских с только что складывающимся и во Франции искусством рококо (двойной портрет царевен Анны и Елизаветы Петровны, Елизаветы в образе Флоры, Натальи Алексеевны и Петра Алексеевича, внуков Петра I, в образе Дианы и Аполлона и пр.). Знаменательно, что некоторые из иностранных мастеров, приехавших в Россию, чтобы обучать русских художников, сами менялись под воздействием наших национальных традиций, как было, например, с Каравакком, заметно изменившим свою «рокайльную» манеру в 30-е годы и приблизившимся к старорусским парсунным приемам письма.
Не все хотел перенять Петр у иностранцев. Любопытно, что в свою первую поездку за границу он повелел вырезать на печати, которой запечатывал свою корреспонденцию из Голландии, слова: «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую». А в 1717 г., в другое свое путешествие, император пишет в письме: «Хорошо перенимать у французов науки и художества, и я бы хотел это видеть у себя, а в прочем Париж воняет». Главной задачей для него было изучить науки, ремесла, искусства, незнакомые ранее в Древней Руси, а затем воспитать свои собственные кадры в области как науки, так и культуры. С этой целью он и вводит уже упоминаемое пенсионерство, и правы исследователи (П.Н. Петров), считавшие 1716 год – год посылки первых русских художников за границу – началом новой художественной жизни России, связанной с новым, светским искусством.
Основателем этой новой живописи справедливо считается Иван Никитич Никитин (середина 80-х годов XVII в.–не ранее 1742). Его биография в высшей степени трагична. Сын московского священника, племянник духовника Петра, он рано сформировался как художник и исполнял портреты царской семьи еще до поездки за границу (подписной и датированный 1714 годом портрет племянницы Петра Прасковьи Иоанновны, ГРМ; портрет любимой сестры Петра Натальи Алексеевны, 1716, ГТГ).

В портрете Прасковьи Иоанновны еще много от старорусской живописи: нет анатомической правильности, светотеневая моделировка формы осуществлена приемом высветления от темного к светлому, поза статична. Цветовые рефлексы отсутствуют. Свет ровный, рассеянный. И даже ломкие складки одежды в чем-то напоминают древнерусские пробела. Но при всем этом в лице Прасковьи Иоанновны читается свой внутренний мир, определенный характер, чувство собственного достоинства. Это лицо с большими, выразительными, печально глядящими на зрителя глазами (вспомним известное выражение «глаза – зеркало души») – центр композиции. Ни тени кокетства, ничего показного нет в этом лице, а есть погруженность в себя, что выражается в ощущении покоя, статики, тишины. Как сказал поэт, «прекрасное должно быть величаво».
Обучение за границей длилось с 1716 по 1719 г., в начале 1720 г. Петр отзывает Никитина, вероятно собираясь сделать профессором Академии художеств, проекты которой усиленно обсуждает в это время. Пенсионерство, возможно, помогает художнику освободиться от скованности, некоторых черт старой русской живописи, но не изменяет его общего художественного мировоззрения, его понимания задач искусства, обогащая его при этом знанием всех тонкостей европейской техники. Написанный после возвращения из-за границы портрет канцлера Головкина (ГТГ) насыщен предельно напряженной внутренней жизнью, душевной серьезностью, сосредоточенностью, почти меланхолией, как и «доитальянские» портреты. Он близок им и общим композиционным решением, постановкой фигуры в пространстве, красочной гаммой. Фон всегда носит несколько плоскостной, «иконный» характер, из которого «выступает» фигура. Все внимание мастера сосредоточено на лице, определяющем характеристику умного, волевого дипломата, которому известны все тонкости государственной политики. Аксессуары не играют существенной роли и в портрете Сергея Строганова, полного энергии и жадной заинтересованности жизнью, при всей томности позы элегантного придворного, вышедшего из среды промышленников (ГРМ). Заметим, кстати, что портрет Строганова – второй датированный (1726 годом) в наследии Никитина. А расцвет творчества Никитина –последние пять лет до смерти Петра, сделавшего художника «персонных дел мастером», гофмалером, даровавшего ему мастерскую «у Синего мосту». Еще когда Никитин только выехал в Италию и путь его лежал через Берлин, Петр писал Екатерине I, чтобы она повелела Никитину написать портрет прусского короля, «...дабы знали, что есть и из нашего народу добрые мастеры», – он гордился художником.

Много раз Никитин писал Петра. Ему приписывается знаменитый портрет в круге (ГРМ); из записей в камер-фурьерском журнале известно, что он писал императора «на Котлине острову» в 1721 г. Совсем недавно в научный оборот введены обнаруженные во Флоренции два парных парадных изображения Петра и Екатерины, написанные художником в Италии, вернее всего, в Венеции, в 1717 г., и свидетельствующие о прекрасном знакомстве Никитина с общеевропейской схемой репрезентативного барочного портрета (Петр представлен в доспехе и с орденом Андрея Первозванного, Екатерина – в парчовом, украшенном драгоценностями платье и с орденом св. Екатерины. Красные, подбитые горностаем, мантии усиливают парадность изображения).
Настроением глубокой, самой искренней личной скорби, печали и величавой торжественности наполнено изображение Петра на смертном одре (1725, ГРМ). Портрет написан как будто бы за один сеанс, как этюд, a la prima, на красном грунте, просвечивающем сквозь жидкие легкие виртуозные мазки. Смерть императора положила начало последнему трагическому этапу жизни Никитина. Он переезжает в Москву, и здесь в 1732 г. его вместе с братьями арестовывают по обвинению в хранении писем, чернящих вице-президента Святейшего Синода, ученого иерарха церкви Феофана Прокоповича. Приговор был суров: Ивана Никитина содержали в Петропавловской крепости в одиночной камере пять лет, затем били кнутом и в 1737 г. «в железах» прогнали этапом на вечную каторгу в Тобольск, где он пробыл до 1742 г. Здесь пришло к нему помилование, но до Москвы он не доехал, вероятнее всего умер в дороге. Его брат Роман, учившийся вместе с ним в Италии и разделивший ту же трагическую судьбу, продолжал после ссылки работать в Москве. Как портретист Роман Никитин был неизмеримо более архаичным художником. О его творчестве мы можем судить только по портрету Марии Строгановой (ок. 1722, ГРМ), а также приписываемому ему более раннему портрету ее мужа Григория Строганова (1715, Одесская картинная галерея).
Художником, обогатившим отечественное искусство достижениями европейских живописных школ, был Андрей Матвеев (1701–1739). «На пятнадцатом году жизни», как он сам указывал в отчете, в царском обозе он уехал в Голландию, где учился у портретиста А. Боонена, а в 1724 г. переехал во Фландрию, в Антверпенскую Королевскую академию, еще овеянную славой Рубенса и фламандской живописной школы XVII столетия, чтобы постигнуть тайны мастеров, создававших исторические и аллегорические картины. В 1727 г. он возвратился на родину. От пенсионерского периода известно одно подписное и датированное 1725 годом произведение А. Матвеева «Аллегория живописи». Это первая в России сохранившаяся до нас станковая картина на аллегорический сюжет. Небольшая по размеру, написанная на паркетированной доске, она изображает аллегорическую фигуру живописи в окружении амуров, сидящую у мольберта. Ей позирует Афина Паллада, которой она придает на холсте черты Екатерины I. Такая метаморфоза не должна удивлять, если вспомнить, что Матвеев послал это произведение императрице с просьбой продлить его обучение, а для этого ему необходимо было продемонстрировать свое мастерство. Произведение несет в себе черты фламандской школы позднего барокко и выявляет богатое колористическое дарование художника. Возможно, еще к ученическим пенсионерским годам относится написанный Матвеевым портрет Петра в овале (ок. 1725, ГЭ).
По возвращении на родину, в Петербург, Матвеев сразу включается в работу по оформлению главного собора города – Петропавловского, для которого исполняет не только самостоятельные картины, но и выступает как инвентор, т. е. делает модели живописных композиций, а кроме того, «свидетельствует» вместе с «персонных дел мастером» И. Никитиным и архитекторами Трезини и Земцовым работы других художников. С 1730 г. и вплоть до самой смерти Андрей Матвеев – первый из русских мастеров глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководит всеми монументально-декоративными работами, которые ведутся в Петербурге и его окрестностях. Вместе со своей командой он украшает живописными панно «Сенацкую залу» – Сенатский зал Двенадцати коллегий (единственный прекрасно сохранившийся интерьер 30-х годов XVIII в., ныне Петровский зал Санкт-Петербургского университета), пишет иконы для многих петербургских церквей, в частности для церкви Симеона и Анны, построенной на Хамовой (теперь Моховой) улице М.Г. Земцовым, делает ряд других работ. Но до нас дошли только станковые произведения Матвеева, ибо почти все монументальные росписи погибли вместе с теми интерьерами, для которых они исполнялись. В 1728 г. Матвеев получает заказ на парные портреты И.А. и А.П. Голицыных (Москва, частн, собр. И.В. Голицына). Из них наиболее интересным представляется портрет А.П. Голицыной, урожденной Прозоровской, статс-дамы, и вместе с тем «князь-игуменьи» Всешутейшего собора и шутихи Екатерины I, битой батогами в связи с делом царевича Алексея. Матвеев создает необычайно выразительную характеристику, сообщив лицу модели тончайшую смесь брюзгливости, надменности и вместе с тем обиды и недоумения, грусти и усталости. И это тем удивительнее, что художником сохранена обычная схема заказного портрета: разворот плеч, гордо посаженная голова, необходимые аксессуары одежды. Не осуждение, а сочувствие к модели передал в этом портрете художник.

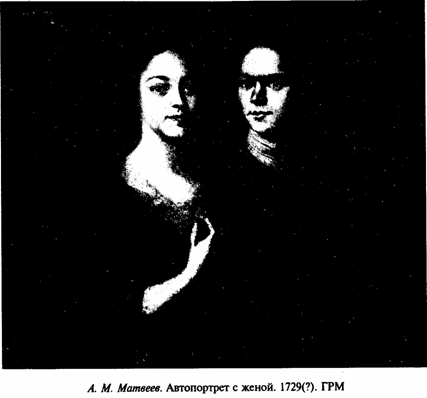
«Автопортрет с женой», написанный, видимо, в 1729 г., – самое известное произведение Матвеева не только благодаря художественным достоинствам, но и потому, что Матвеев первым из русских художников создал поэтический образ дружественного и любовного союза, свободно, открыто, радостно заявив о своем чувстве к любимой. Матвеев мог видеть много двойных портретов за одиннадцать лет обучения в Нидерландах. Однако в матвеевском портрете нет ни искрящегося задора автопортрета Рембрандта с Саскией, ни рубенсовской роскоши и любования, ни семейной добродетельности вандейковских портретов на этот сюжет. Задушевность и простота, доверчивость и открытость –главные его черты. Каким-то необыкновенным целомудрием и душевной чистотой веет от этого произведения. Живопись Матвеева, прозрачная, «плавкая», с тончайшими переходами от изображения к фону, нечеткими светотеневыми градациями и растворяющимися контурами, богатая лессировками, в этом произведении достигает совершенства и свидетельствует о полном расцвете его творческих сил.
Русская живопись в лице Никитина и Матвеева демонстрирует замечательное овладение приемами западноевропейского мастерства, при сохранении только ей присущего национального духа, будь это строгость, даже некоторая аскетичность никитинских образов, или тонкость и задушевность матвеевских. «Обмирщение», которого добивался Петр в русской жизни, произошло в искусстве первой половины XVIII века в значительной степени благодаря усилиям Никитина и Матвеева. Последний был учителем таких живописцев, как Вишняков и Антропов, наследие которых в свою очередь перекинуло своеобразный «мост» к творчеству знаменитых мастеров второй половины столетия.
Графика как самый оперативный, мобильный вид искусства, быстро откликающийся на все события времени, пользовалась в бурное петровское время особым успехом. Большие эстампы запечатлели победы русского оружия на море и на суше, торжественные въезды в города, сами виды городов – городские ведуты, фейерверки в честь славных викторий, портреты знаменитых людей. Графика использовалась для учебных целей (календари, атласы). Так, в 1703 г. в Москве была напечатана «Арифметика» Магницкого с гравюрами М. Карновского: аллегорическое изображение Арифметики и двуглавый орел на фронтисписе. В календарях того времени среди сведений политического характера, медицинских советов, предсказаний погоды, гороскопов было также немало гравюр, поясняющих текст. Гравер Алексей Ростовцев участвовал в создании первого русского глобуса. Мобильное, массовое искусство гравюры на меди имело на Руси свои давние традиции и особенно расцвело в конце XVII столетия в мастерских Оружейной палаты. Именно оттуда идут истоки творчества таких замечательных граверов петровского времени, как братья Алексей и Иван Зубовы, сыновья живописца Оружейной палаты Федора Зубова. В России работали и иностранные мастера-граверы, приглашенные Петром. Так, еще в 1698 г. был заключен контракт с искусным мастером Схонебеком, затем вслед за ним приехал его родственник Питер Пикарт. Но истинное лицо русской графики первой трети XVIII в. определили русские мастера, упоминавшиеся уже Иван и Алексей Зубовы, Алексей Ростовцев. Усвоив от Схонебека ряд новых технических приемов, они сохранили национальный характер русской фавюры. В ведутах и баталиях Алексея Зубова (как, впрочем, и у его брата) преобладает лаконичный штриховой рисунок, большую роль играет цвет самой белой бумаги, композиция проста, логична, ясна, все пространство чаще всего разделено на три плана. В ведутах (например, в изображениях Петербурга) на первом плане разыгрывается жанровая сцена, второй план занят «водной артерией», и на третьем предстает изображение архитектуры, которая и даст название всей гравюре. Название, кстати, наивно сохраняя архаические традиции XVII в., размещается в развернутой, как свиток, ленте наверху. Почти обязательный мотив зубовских гравюр – корабль: обволакиваемый клубами дыма – в баталиях (Баталия при Грейнгаме, 1721) или нарядно плещущий парусами на ветру – в ведутах (Васильевский остров, 1714; Панорама Петербурга, 1716–1717). Молодой город, живой, подвижный, меняющий свой облик буквально на глазах, столица гигантской морской державы – таким предстает Петербург на ведутах Зубова. Большие величественные корабли – гордость Петра, и маленькие легкие лодки, на которых император заставлял перебираться жителей с одного острова на другой; плененные корабли шведов, ритмический взмах весел, напоминающих крылья или распахнутые веера; клубы порохового дыма от салютов ли, от боевой ли пальбы, – на всем лежит дух суровости, но и праздничности той эпохи – эпохи грандиозных свершений («Торжественный ввод в Санкт-Петербург взятых в плен шведских фрегатов», 1720). Наряду с всдутами и баталиями в этот период распространен и еще один жанр гравюры – фейерверк, «огненная потеха» (другое название – «потешные огни») в честь какого-либо значительного события. Кроме А. Зубова в фейерверках много работал А. Ростовцев. Старший брат А. Зубова Иван Зубов исполнял в основном гравюры с видами Москвы.
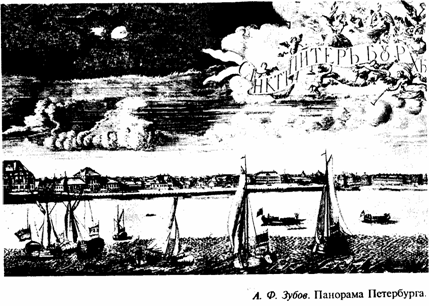
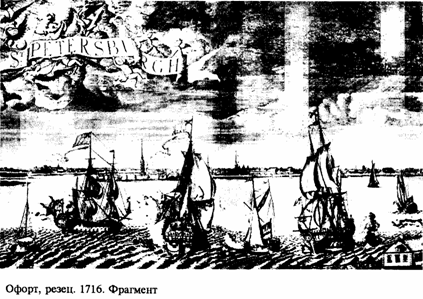
Продолжал развиваться в петровское время и народный лубок. Ярко раскрашенная плоскостная, примитивно-самобытная народная картинка на дереве была самого разнообразного содержания: сатирического, сказочно-былинного, бытового,– всегда сохраняя поразительную декоративность общего решения и чисто народный юмор.
Как образцы искусства первой трети XVIII в. дошли и рисунки от руки, уникальные произведения графики того времени. Это бытовые и пейзажные рисунки, видимо, учеников рисовальной школы при Петербургской типографии (перо, кисть, уголь, карандаш – ГРМ, собр. Аргутинского-Долгорукова), петербургская серия рисунков архитектора Ф. Васильева за 1718–1722 гг. (ГРМ). Работали петровские графики и в портретном жанре, но он менее интересен, чем живописный, ибо, как правило, для графического портрета использовался какой-нибудь уже известный живописный образец.
Процесс «обмирщения» и освоения новых методов в скульптуре происходит медленнее, чем в других видах искусства. Слишком долго смотрели русские люди на круглую скульптуру, как на языческих идолов, «болванов». По сути, в течение восьми веков существования Древней Руси она не развивалась. Правда, и в первой половине XVIII в., и ранее существовала прекрасная полихромная деревянная скульптура Перми, Вологды, собственно московской школы. Но она была преимущественно религиозного содержания, а светской скульптуре нужны были иные пути развития. Поэтому приглашенные учить искусству скульптуры иностранные мастера сыграли более заметную роль в ее становлении, чем живописцы и графики. Посланные за границу русские учились скульптуре в основном у Баратта в Венеции. По возвращении домой, уже после смерти Петра, некоторые из них работали под началом Б.-К. Растрелли над расчисткой его «Анны Иоанновны с арапчонком» и на реставрационных работах в Летнем саду.
Знакомство с западноевропейской скульптурой осуществлялось и благодаря закупкам за границей произведений позднего барокко, скульптур мастеров круга Бернини, а иногда даже и античных. Так, в Риме была куплена знаменитая Венера, получившая позже название Таврической. По поводу проволочек с ее вывозом Юрий Кологривов, покупавший ее за 196 ефимков, выразительно писал Петру: «И я лутче умру, нежели владеть им тою статуею».
Отправлявшиеся с подобной миссией за границу с трудом преодолевали неприятие круглой скульптуры.
Правда, к восприятию скульптуры светского характера русские люди были уже подготовлены сочной барочной резьбой иконостасов церквей, пластикой церкви Знамения в Дубровицах, Меншиковой башни, рельефами Петровских ворот Петропавловской крепости, исполненными Оснером Старшим. Декоративные панно дубового кабинета Петра в Петергофском дворце работы Н. Пино, рельефы А. Шлютера на фасадах Летнего дворца в Летнем саду были несомненно определенным этапом в изучении западноевропейских приемов пластического искусства. Рождение же светской круглой скульптуры, монумента, конного монумента на русской почве связано прежде всего с именем Б.-К. Растрелли, Растрелли-отца, или Растрелли Старшего, как его называют историки искусства.
Бартоломео Карло Растрелли (1675–1744), флорентиец по происхождению, работавший в Риме и Париже, воспитанный в традициях берниниевского барокко, вместе со своим сыном приехал в Россию в 1716 г. и обрел здесь вторую родину. Договор с ним включал выполнение самых разнообразных заказов. Он работал и как архитектор, и как скульптор в разных жанрах: от «кумироделия всяких фигур» до строительства фонтанов («бросовых вод... которые вверх прыскают») и создания театральных декораций. Но как архитектор он был оттеснен Леблоном. Его первая работа в России – бюст А. Д. Меншикова (бронза, ГЭ), несколько театральный, внешне эффектный, величественный образ «прегордого Голиафа, герцога Ижорской земли», «полудержавного властелина», про которого чуть ли не сам Петр остроумно сказал при случае: «Он в беззакониях зачат, во грехах родился и в плутовстве скончает живот свой».
Но главным, для чего был приглашен Растрелли в Россию, было создание памятника Петру. Из дневника камер-юнкера Ф.В. Берхгольца мы узнаем, что Растрелли велели исполнить даже два изображения императора – на коне и пешего, о последнем нам известно лишь, что скульптура была готова к отливке, но ничего неизвестно о ее дальнейшей судьбе. В результате к 1720 г. скульптором были представлены эскизы и модели конного монумента, с множеством аллегорических фигур – решение, от которого он позже отказался. Естественно, что в процессе работы над монументом родился портретный бюст Петра (1723, ГЭ; повторение в чугуне –1810, ГРМ). Как и изображение Меншикова, бюст императора представляет типичное произведение барокко: это динамическая композиция с подчеркнутой пространственностью и непременным акцентом на множественности фактур, со светотеневыми контрастами пластических масс, их живописностью. Это скорее образ целой эпохи, чем конкретного индивидуума, и эта обобщенность придает бюсту черты монументальности. Но вместе с тем в нем есть подлинная историческая правда. Не случайно вспоминаются бессмертные строки Пушкина: «...лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен. Он весь, как божия гроза...» Или: «Могуч и радостен, как бой...» Глядя на эту вдохновенно откинутую голову, кажется, что мы слышим знаменитые слова царя, сказанные им перед Полтавской битвой: «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное... а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние ее!»
Созданию бюста предшествовала, как всегда у Растрелли, большая работа с натуры. Он исполнил маску с живого Петра, затем восковую модель. Удивительное чувство историзма, присущее Растрелли, верная художественная оценка избранной им модели как исторической личности позволили ему создать образ подлинного героизма и величия, большой внутренней силы. Бюсты Растрелли по праву могут считаться началом развития русского скульптурного портрета.
Расцвет монументальной русской скульптуры начинается с первого русского монумента, исполненного также Растрелли, – статуи Анны Иоанновны с арапчонком, одного из ярчайших памятников по цельности художественного образа и пластической выразительности (1732–1741, из них 1732–1739 –решение модели, снятие посмертной маски и выполнение бюста Прасковьи Федоровны – матери императрицы, на которую она была очень похожа, подготовка к литью, устройство печи; затем 1739–1741 –отливка и чеканка). Введение в композицию фигуры арапчонка, столь характерного персонажа придворного быта XVIII в., необходимой скульптору для пластического равновесия масс, соединило мотивы парадный и жанровый, усилило контраст с «каменно-подобной» фигурой императрицы, в образе которой слились воедино азиатский деспотизм и изощренная роскошь западноевропейской придворной культуры. Растрелли продемонстрировал здесь не только безупречное владение языком монументальной скульптуры, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной характеристики, но и глубокое проникновение в мир русской жизни, в контрасты русского XVIII столетия, создав символ эпохи. («Престрашного была взору,– писала об Анне Иоанновне Н.Б. Шереметева,–отвратное лицо имела, так была велика, что когда между кавалеров идет, всех головою выше и чрезвычайно толста»).

Последние четыре года жизни Растрелли – это «взлет гения», как справедливо писали исследователи его творчества Н. Архипов и А. Раскин. За 1741–1744 гг. при новом царствовании «дщери Петровой, блестящей Елисавет», на которую смотрели с надеждой, как на продолжательницу дел Петра, он создает конный монумент императора, найдя в свои 60 с лишним лет творческие силы совершенно изменить первое барочное решение 20-х годов. Он создает образ полководца, триумфатора в традициях, начало которых лежит еще в памятнике Марку Аврелию и находит продолжение в донателловском «Гаттамелате» и «кондотьере Коллеони» Верроккьо. Свободную постановку фигуры, четкость и строгость силуэта, органическую слитность массы и силуэта с пространством, законченность и определенность всех форм видим мы в памятнике вместо барочной сложности движения и помпезности пышных драпировок. Мужественный, простой и ясный пластический язык, которым Растрелли прославляет – убедительно и искренне – силу и могущество русской государственной власти, несомненно продолжает традиции антично-ренессансных пространственных представлений. Именно в них сумел скульптор создать исполинский образ, олицетворяющий торжествующую и победоносную Россию, образ героя, совершившего исторический и национальный подвиг –преобразование России. Судьба памятника была более чем драматична. При жизни Растрелли исполнил только модель в натуральную величину, отливку производил уже его сын (1748). После смерти Елизаветы прекратилась расчистка памятника, а потом о нем вообще забыли. Лишь при Павле I растреллиевский монумент был поставлен у Михайловского (Инженерного) замка, где находится и по сей день, став неотъемлемой частью общего ансамбля.

Характеристика Растрелли, так много сделавшего для русской скульптуры, была бы неполной без упоминания того, как плодотворно он занимался декоративными работами в Петергофе, а также портретами и многими другими жанрами вплоть до эскизов маскарадных платьев. Ему и А. К. Нартову принадлежит архитектурный замысел и рельефы Триумфального столпа в честь Северной войны. К сожалению, работа так и осталась незавершенной. Мы знаем лишь ряд барельефов (ГЭ и ГРМ).
Так к концу жизни Петра проходил процесс становления светского искусства во всех его видах и жанрах. Воистину Петр мог бы сказать: «Будем надеяться, что, может быть, на нашем веку мы пристыдим другие образованные страны и вознесем русское имя на высшую степень славы».
Однако после смерти Петра вокруг русского трона начинается настоящий сумбур так называемой «эпохи дворцовых переворотов». «Еще раз говорю, что все непостоянство мира нельзя сравнить с непостоянством русского двора»,– писал в 1730 г. один из посланников. Внутренняя нестабильность не могла не отразиться на развитии искусства.
Развитие искусства середины XVIII в. делится на два этапа: 30-е годы – мрачное время правления Анны Иоанновны, засилья иноземцев, и 40–50-е годы –годы елизаветинского правления, некоторого смягчения нравов предыдущего времени, роста национального самосознания, поощрения всего отечественного, время сложения стиля русского барокко, знаменующего синтез всех видов искусства.
30-е – начало 40-х годов в архитектуре ознаменованы работой И.К. Коробова (1700/01–1747) над реконструкцией Адмиралтейства и созданием центральной башни с высоким золоченым шпилем (1732–1738), несущим флюгер в виде трехмачтового корабля, оставленным при перестройке здания А.Н. Захаровым уже в XIX веке; градостроительными планами П.М. Еропкина (ок. 1690–1740), творчеством М.Г. Земцова (1688–1743). Но истинный расцвет связан с именем Франческо Бартоломео Растрелли (1700–1771). Его ранние работы –дворцы Бирона в Митаве (1738–1740, теперь Елгава) и Руентале (1736–1740, теперь Рундаль), Летний (деревянный) дворец Елизаветы Петровны, стоявший на месте Михайловского замка и сохранившийся на гравюре по рисунку М. Махаева (1741–1744). Дворец М.И. Воронцова (1749–1758) на Садовой улице в Петербурге с его эффектной игрой светотени на фасадах свидетельствует о формировании собственного творческого лица. С 1745 по 1755 г. мастер занят работой над Большим Петергофским дворцом, которая осложнялась тем, что старый дворец должен был войти как центральная часть в общую композицию с открытыми террасами, боковыми павильонами, церковью и корпусом «под гербом». Но парадная лестница и большой танцевальный зал, двусветный, очень высокий, с простенками, сплошь занятыми зеркалами, с обильной золоченой деревянной резьбой и иллюзорной живописью плафонов – уже типичное произведение Растрелли, символизирующее победу синтеза всех видов искусства в одном стиле –барокко. Одно из самых совершенных созданий архитектурного гения Растрелли – Большой, или Екатерининский, дворец в Царском Селе. Скромное здание, возникшее на так называемой Саарской мызе еще в петровское время, было изменено сначала А. Квасовым и С. Чевакинским, а уж затем (в 1752–1757) – Растрелли. Он превратил его в громадную анфиладу зал, «блок-галерею» с окнами в обширный регулярный сад, где возвел типичные парковые павильоны середины XVIII в.– Эрмитаж, Монбижу, Грот и Катальную горку. С другой стороны дворец обращен к торжественному парадному двору.
В центре Петербурга Растрелли построил Зимний дворец (1754– 1762). Почти квадратное в плане здание имеет внутренний замкнутый парадный двор, тройными воротами соединяющийся с «лугом» (теперь Дворцовая площадь), главный фасад дворца обращен на Неву. Возможно, наивысшей удачей Растрелли явился комплекс Смольного монастыря (1748–1764, завершен в 30-х годах XIX в. В.П. Стасовым): собор и образующие внутренний двор –соответственно древнерусской традиции –здания келий. Главный въезд Растрелли задумал в виде колоссальной (более 140 м высотой) башни-колокольни, строительство которой, к сожалению, не было осуществлено. Во всех работах Растрелли (а сюда можно добавить и дворец Строганова в Петербурге 1752–1754 гг., и построенный по его проекту московским зодчим И.Ф. Мичуриным Андреевский собор в Киеве) при всей декоративной пышности отделки и игре светотени на фасадах, красочности сочетаний цветов интенсивно-голубого, белого и позолоты сохраняется удивительная ясность основной композиции, что становится обязательной чертой русского барокко.
Вокруг Растрелли группировались одаренные зодчие (В.И. Неёлов, Я.А. Ананьин), скульпторы (И.-Ф. Дункер), живописцы (Д. Валериани, братья Бельские, И.Я. Вишняков). Под обаянием его таланта находились и вполне самостоятельно работающие архитекторы, такие, как С.И. Чевакинский (1713–1774/80), строитель Никольского Морского собора в Петербурге (1753–1762).
В Москве в это время сложилась целая архитектурная школа Д.В. Ухтомского, завершившего после учителя – И.Ф. Мичурина знаменитую колокольню Троице-Сергиевой лавры (1741–1770). Здесь работали такие зодчие, как А.В. Квасов (собор в Козельце на Украине, 1751–1763), Ф.С. Аргунов (подмосковная усадьба Шереметевых Кусково, знаменитый «Фонтанный дом» –дом Шереметевых на Фонтанке в Петербурге), А. П. Евлашев (надвратная колокольня Донского монастыря в Москве, 1730, 1750–1753).
Необходимо отметить еще один вид архитектурных памятников. В XVIII столетии, особенно в его первой половине и середине, было принято воздвигать Триумфальные арки в честь какого-либо выдающегося события: в петровское время так отмечали славные виктории, во время правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны триумфальные ворота строились в честь тезоименитства или по поводу коронаций и пр. Так, еще при Петре I были воздвигнуты на Троицкой площади Троицкие ворота, при Анне Иоанновне, в честь ее въезда в Петербург, – Адмиралтейские (у пересечения Невской «першпективы» и реки Мьи, Мойки) и Аничковские (через ту же перспективу у Аничкова дворца). В создании триумфальных ворот обычно принимали участие ведущие архитекторы (Трезини, Земцов) и живописцы (А. Матвеев, И. Вишняков). Арка являла собой блестящий синтез всех искусств: архитектуры, скульптуры (иногда в несколько десятков фигур) и живописи. «Фонарь», венчающий арку, как правило, по главному фасаду был украшен портретом царствующей особы. Скульптурные и живописные аллегории прославляли ее (или событие, в честь которого арка воздвигалась). Общее впечатление торжественности, праздничности усиливалось цветом: скульптуры раскрашивались, облачались в «античные» одежды, живопись строилась на сочетании крупных цветовых пятен, с расчетом «на смотрение» с расстояния. Облик таких памятников сохранили как литературные источники, так и чертежи, эскизы и даже обнаруженные в последнее время некоторые рисунки к их живописным панно (см., например, рисунок А. Матвеева к Аничковским воротам «Венчание на царство», БАН).

Русское барокко вызвало подъем всех видов декоративно-прикладного искусства. Барочный интерьер – это некий единый декоративный поток, необычайное богатство декора в его барочно-рокайльных тенденциях, с капризным изяществом рисунка, прихотливостью общей композиции и нарядностью решения, сказавшихся буквально во всех видах и техниках: в мебели, в только что родившемся отечественном фарфоре, в тканях.
Создание барочного стиля в архитектуре не могло непосредственно не отразиться на живописи, прежде всего на монументально-декоративной, широко применявшейся во дворцах и церквях Растрелли и других архитекторов этого времени; но, к сожалению, монументальные росписи почти не сохранились, как не сохранились искаженные временем и перестройками или вообще уничтоженные интерьеры, для которых они исполнялись, или даже сами памятники архитектуры. Но зато от рассматриваемого нами периода осталось немало произведений станкового искусства, особенно наиболее развитого с петровских времен жанра портрета.

В середине века в России по-прежнему трудились и иностранные мастера, приглашенные царским двором. Во время правления Елизаветы Петровны это были в основном художники, работавшие в стиле рококо, например, итальянец Пьетро Ротари (1707–1762), прославившийся своими изящными изображениями девичьих головок, которые составили в Петергофском дворце «Кабинет мод и граций»; немец Георг Христофор Гроот (1716–1749), создавший парадные по композиции, но маленькие по размеру, рокайльные по стилю, затейливые, грациозные портреты (Елизаветы Петровны, ГРМ; вел. кн. Екатерины Алексеевны, ГРМ, и пр.). Совсем ненадолго в конце 50-х годов приезжал из Парижа такой замечательный живописец, как Луи Токке (портрет А. Воронцовой в образе Дианы – ГЭ). Но несомненно, однако, и то, что рядом с западными мастерами рокайльного направления уже совершенно самостоятельно выступает ряд отечественных художников с ярко выраженной самобытностью, донесших до нас национальные традиции русского искусства. И если раньше, в петровское время, иностранцы (Каравакк, Таннауер, Пино) играли важную роль в процессе обмирщения искусства, то теперь иностранные и русские мастера, по верному определению исследователя, существуют «на паритетных началах». Как правило, большинство из отечественных художников работали в стенах Канцелярии от строений, исполняя и монументальные заказы, проявляя поражающую универсальность в умении создавать все своими руками, – от плафонов и панно до театральных декораций к опере, рисунков обоев, росписи хоругвей и, конечно, икон как для постоянных, так и для походных церквей. Но дошли, как уже говорилось, из всего этого обширного наследия только портреты. Причем по письму они архаичнее, чем произведения петровских пенсионеров Никитина или Матвеева.

Художники середины века не учились за границей, они учились дома, и учились по старинке, сохраняя традиции старой русской живописи. Отсюда удивительные контрасты иногда не только в творчестве одного художника, но и в одном произведении. Но отсюда и удивительное, неповторимое обаяние их портретописи.
Все это в полной мере может быть отнесено к творчеству одного из пленительнейших живописцев XVIII столетия, а возможно, и во всем русском искусстве И.Я. Вишнякова (1699–1761). После смерти Матвеева он занял пост главы Живописной команды Канцелярии от строений и сам принимал непосредственное участие в монументально-декоративных работах на всех объектах Петербурга и его окрестностей. Но кроме того, Вишняков занимался портретом.
Издавна с именем Вишнякова связывались портреты детей начальника Канцелярии от строений Фермера – Сарры Элеоноры и Вильгельма Георга Фермер (оба – ГРМ), из них первый исполнен в 1749 г. (на обороте сохранилась надпись «Сарра Ферморова 10 лет», а она родилась в 1740 году), а второй написан вернее всего между 1758 (когда мальчик Фермер был введен в графское достоинство) и 1761 годами (когда он был произведен в офицеры и, следовательно, должен был быть изображен в другом костюме). Лабораторное исследование, которое теперь часто практикуется в изучении произведений прошлых веков, т. е. исследование в рентгеновских, инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, микроскопическое и химическое, показало к тому же, что портрет мальчика сначала был задуман как парный портрету сестры: также на пейзажном фоне и в партикулярном платье, – но был переписан, вероятно, из-за получения Фермером сержантского чина. В 60-х годах XX столетия были реставрированы два подписных произведения Вишнякова –парные портреты четы Тишининых, датированные 1755 годом (Историко-художественный музей г. Рыбинска). Специальное исследование творчества этого художника в последние годы позволило атрибутировать еще несколько портретов как принадлежащих его кисти (портрет мальчика Василия Дарагана, 1745, Черниговский исторический музей; портрет правительницы Анны Леопольдовны, 1742–1746, ГРМ; портреты М.С. Бегичева, 1757, музей В.А. Тропинина; парные портреты М. и С. Яковлевых, ок. 1756, ГЭ).

Особенности вишняковской кисти видны во всех этих произведениях, одно из самых интересных – портрет Сарры Фермор. Это типичное для того времени парадное изображение. Девочка представлена в рост, на стыке открытого пространства и пейзажного фона с обязательной колонной и тяжелым занавесом. На ней нарядное платье, в руке веер. Ее поза скованна, но в этой застылой торжественности много поэзии, ощущения трепетной жизни, овеянной высокой художественностью и большой душевной теплотой. В портрете соединены, что типично для Вишнякова, как будто бы резко контрастные черты: в нем ощущается еще живая русская средневековая традиция –и блеск формы парадного европейского искусства XVIII в. Фигура и поза условны, задник трактован плоскостно – это открыто декоративный пейзаж,– но лицо вылеплено объемно. Изысканное письмо серо-зелено-голубого платья поражает богатством многослойной живописи и имеет традицию к уплощению. Оно передано иллюзорно-вещественно, мы угадываем даже вид ткани, но цветы по муару рассыпаны без учета складок, и это «узорочье» ложится на плоскость, как в древнерусской миниатюре. А над всей схемой парадного портрета – и это самое удивительное –живет напряженной жизнью серьезное, грустное лицо маленькой девочки с задумчивым взглядом.

Цветовое решение – серебристая тоновая живопись, отказ от ярких локальных пятен (что вообще-то было свойственно кисти этого мастера) –обусловлено характером модели, хрупкой и воздушной, сходной с каким-то экзотическим цветком. Как из стебля, вырастает ее головка на тонкой шее, бессильно опущены руки, об излишней длине которых писал не один исследователь. Это вполне справедливо, если рассматривать портрет с позиций академической правильности рисунка: заметим, что руки вообще давались наиболее трудно мастерам, не получившим систематического «учебного» образования, каковыми и были художники середины XVIII в., и Вишняков в частности, но их длина здесь так же гармонически подчеркивает всю хрупкость модели, как и тонкие деревца на заднем плане. Сарра Фермер как будто воплощает не истинный XVIII век, а эфемерный, лучше всего выраженный в причудливых звуках менуэта, XVIII век, о котором только мечтали, и сама она –под кистью Вишнякова – как воплощение мечты.
Вишняков сумел соединить в своих произведениях восторг перед богатством вещного мира и высокое чувство монументальности, не потерянное за вниманием к детали. У Вишнякова этот монументализм восходит к древнерусской традиции, в то время как изящество, изысканность декоративного строя свидетельствуют о прекрасном владении формами европейского искусства. Гармоническое соединение этих качеств делает Ивана Яковлевича Вишнякова одним из самых ярких художников такой сложной переходной поры в искусстве, какой являлась в России середина XVIII столетия.

«Архаизмы» в живописном почерке при большой художественной выразительности еще более очевидны в творчестве Алексея Петровича Антропова (1716–1795), живописца, который многие годы работал в Канцелярии от строений под началом Матвеева, а затем Вишнякова. Он также расписывал интерьеры дворцов, писал иконы для многочисленных церквей, как и его учителя. В станковой живописи он работал в жанре камерного портрета, в котором достиг большой реалистической достоверности. Уже в первом по времени дошедшем до нас изображении – статс-дамы А.М. Измайловой (1759, ГТГ) – наблюдаются черты, которые будут свойственны художнику на протяжении всей его творческой жизни. Это поясное изображение, причем фигура, вернее, полуфигура и лицо, максимально приближены к зрителю, взяты очень крупно. Колористическое решение строится на контрастах больших локальных цветовых пятен. Контрастна и светотеневая моделировка объемов. Ему особенно удавались старые лица, как замечал сам мастер, в которых он не боялся подчеркивать признаки прожитой жизни, создавая образы большой достоверности (портрет М.А. Румянцевой, 1764, ГРМ; портрет А.В. Бутурлиной, 1763, ГТГ). В них, возможно, нет тонкой психологичности, но это и не только удачно схваченное сходство. В каждой модели Антропов умел улавливать наиболее существенное, и потому его портреты обладают такой удивительной жизненностью. Не изменяет этим своим особенностям Антропов и при изображении «князей церкви», с которыми был близко знаком, находясь на посту цензора Синода (портрет С. Кулябки, 1760, ГРМ, портрет Ф. Дубянского, ГЭ). Даже в парадных портретах, естественно, совсем не стремясь сатирически толковать образ, художник остается верен своим иногда беспощадным наблюдениям. Так, в парадном портрете Петра III (1762, ГРМ) пышная дворцовая обстановка, парадные регалии, обычные в изображении царской особы, оказываются в контрасте с жалкой в своей самодовольной напыщенности уродливой фигурой императора, по меткому определению исследователя (О.С. Евангуловой), «вбежавшего как бы случайно, и, как оказалось, ненадолго».

При всех реалистических находках Антропова в его письме много от традиций живописи предыдущего столетия. Композиция его портретов статична. Изображение фигуры – при подчеркнутой объемности лица – плоскостно. В портретных фонах мало воздуха. Все эти черты в той или иной степени всегда свойственны художникам послепетровской поры, не получившим академической выучки, вместе с тем это-то в большой степени и составляет своеобразие живописи середины века, определяет ее специфику. Антропов, как и Вишняков, имел большое влияние на живопись последующего периода. Из его петербургской частной художественной школы вышел один из самых замечательных художников второй половины столетия – Левицкий.
Близок Антропову Иван Петрович Аргунов (1729–1802), крепостной художник Шереметевых, происходивший из замечательной династии, давшей и живописцев, и архитекторов. Аргунову всю жизнь приходилось помимо живописи заниматься управлением домами Шереметевых (сначала на Миллионной улице в Петербурге, затем так называемым Фонтанным домом).
Первые приобретшие известность портреты Аргунова соединяют в себе принцип композиции западноевропейского парадного портрета и идущие от парсуны черты застылости, живописной сухости, плоскостности (портрет князя И.И. Лобанова-Ростовского, 1750, и парный к нему, исполненный четыре года спустя портрет его жены, оба ГРМ). Свое обучение Аргунов начал у приехавшего в Россию в 40-е годы Гроота, которому помогал в исполнении икон для церкви Царскосельского дворца. От Гроота Аргунов усвоил приемы рокайльного письма, что видно на двух сохранившихся иконах из собрания ГРМ «Спаситель» и «Богоматерь»: грациозные, несколько манерные, вытянутые фигуры, радостная, праздничная, светлая гамма голубоватых тонов. Однако уже в портретах Лобановых-Ростовских, особенно в мужском, превалируют насыщенные плотные цвета (темно-синий кафтан с ярко-красными воротником и манжетами, пурпурная мантия, коричнево-оливковый фон), материальность предметов (кружева, мех, серьги в женском портрете, горностай мантии обоих портретов и пр.), жесткая чеканная проработка складок ткани, не выявляющих форму тела. Всю жизнь оставаясь крепостным художником Шереметевых, Аргунов много раз писал портреты своих хозяев: П.Б. Шереметева и его жену Варвару Алексеевну – урожденную княжну Черкасскую (картины в ГЭ, Останкино, ГТГ). Но самыми удачными были портреты камерные. Так, полны естественности, приветливости и большой внутренней значительности лица мужа и жены Хрипуновых, мелких помещиков, живших в доме Шереметевых на Миллионной улице, управляющим которого был Аргунов (1757, Останкино), выразительно умное и властное лицо Толстой (урожденной Лопухиной) на портрете из Киевского музея русского искусства (1768). Но особенной теплотой насыщены исполненные Аргуновым портреты детей и юношей. Чудесно изображение в охристо-коричневой гамме воспитанницы Шереметевой «Калмычки Аннушки» (1767, Кусково). Необычайной живописной свободой поражает автопортрет, написанный, видимо, в конце 50-х годов, ранее считавшийся то изображением неизвестного скульптора, то архитектора. Колорит построен на игре и взаимодействии тончайших оттенков зеленоватых (цвет халата), коричневых (мех опушки) и оливковых (фон) цветов, с всплесками светло-голубого и розового в шейном платке.

В 80-е годы под влиянием нового направления – классицизма – манера Аргунова меняется: формы становятся скульптурное, контуры четче, цвет локальнее. Это отчетливо видно в изображении «Неизвестной крестьянки в русском костюме» (1784, ГТГ), с его пластичностью форм, простотой, ясностью композиции. Колорит остается теплым, художник виртуозно строит его на сочетании красного и золотого с жемчужно-телесным. Сквозь тончайшие лессировки, которыми моделируется форма, просвечивает грунт. Как «Калмычка Аннушка» предвосхищает детские портреты Кипренского, так аргуновская «Неизвестная крестьянка» по достоинству, величавости и душевной чистоте образа перекликается с венециановской «Девушкой с бурачком».
Особняком в творчестве Аргунова стоят так называемые портреты ретроспективные, предков П.Б. Шереметева: его отца, знаменитого петровского полководца Бориса Петровича Шереметева, его жены и четы князей Черкасских, родителей жены Шереметева Варвары Алексеевны. Аргунов использовал в работе над этими портретами сохранившиеся прижизненные изображения и композицию европейского парадного портрета (четыре таких портрета, предназначавшихся для овальной залы «Фонтанного дома» в Петербурге, теперь в собрании Кусково).
Аргунов был не только интереснейшим художником, но и талантливым педагогом. Еще в 1753 г. к нему в обучение отдали трех мальчиков, «спавших с голоса». Им предстояло стать известными русскими живописцами: это были Лосенко, Головачевский и Саблуков. У Аргунова учился и сын – Николай Аргунов.
Помимо живописи в середине XVIII столетия в русском искусстве интересно развивалась графика, особенно архитектурный пейзаж, ведута, прежде всего благодаря такому выдающемуся рисовальщику и «мастеру ландкартного дела», как М.И. Махаев. Его рисунки Петербурга, гравированные потом талантливыми граверами Академии наук Е.Г. Виноградовым, А.А. Грековым и другими («под смотрением» И.А. Соколова), передают образ красивейшего города дворцов, набережных, водных перспектив. Махаев умел и любил передавать глубину пространства, воздушную среду, что отличает гравюры с его рисунков от гравюр Зубова («План столичного города Санкт-Петербурга с изображением онаго проспектов, изданный трудами Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге», исполненный к 50-летию города).
В связи с коронацией Елизаветы Петровны появилось также много гравированных изображений этого события. Наиболее интересные из них сделаны другим известным графиком – И.А. Соколовым, около десяти лет возглавлявшим русских граверов в Академии наук и сменившим на этом посту в 1745 г. Х.-А. Вортмана.
На искусстве середины века не могла не сказаться полная творческих исканий и находок, бурная, энергичная, масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765). Более четырех тысяч опытных плавок предшествовало изобретению цветных смальт для мозаик, не уступающих по красоте итальянским. Свои опыты Ломоносов производил на фабрике в Усть-Рудице под Петербургом. У Ломоносова был грандиозный замысел создать более двадцати огромных мозаичных панно для Петропавловского собора (до нас дошла мозаика «Полтавская баталия», 1762–1764, РАН, Санкт-Петербург). С 1751 по 1769 г. было создано больше сорока мозаик, среди них портреты Петра I (1755–1757, ГЭ) и Елизаветы Петровны (1758–1760, ГРМ). Смерть помешала Ломоносову осуществить свой грандиозный замысел возрождения великого искусства мозаики, которое он рассматривал как могучее средство монументальной пропаганды высоких патриотических идей.
Вторая половина XVIII столетия – период расцвета абсолютной монархии в России, могущества русского дворянства. Но в расцвете абсолютистской системы были заложены и причины ее надвигающегося кризиса. Централизующей силе абсолютной монархии противостояли, с одной стороны, крестьянские движения (восстание Пугачева), с другой – вольнодумство («вольтерьянство») просвещенных дворян, их увлечение масонскими (Новиков) и тираноборческими (Радищев) идеями. Напряженному развитию русской общественной мысли и русской литературы этих лет (Сумароков, Фонвизин) соответствовал быстрый взлет русской художественной культуры второй половины XVIII в., формирование целого поколения мастеров, представленного крупными творческими индивидуальностями. Этот подъем обусловлен, несомненно, развитием национального искусства в предшествующий период, в овеянное высоким гражданственным идеалом петровское время, в годы елизаветинского правления, когда русское барокко столь блистательно проявило себя в грандиозных архитектурных ансамблях, в монументальной живописи и пластике.
Основание Академии художеств (1757), первого и отныне крупнейшего художественного центра, определило пути русского искусства на протяжении всей второй половины столетия. В течение многих десятилетий XVIII в. Академия, основанная инициативой И.И. Шувалова, куратора Московского университета, и при помощи М.В. Ломоносова, была единственным в России высшим художественным заведением. Академия взрастила высокопрофессиональных архитекторов, скульпторов, живописцев и графиков, решавших вaжнeйшиe художественные задачи русской жизни. Основой художественного образования было изучение великих мастеров прошлого, прежде всего античности. В соответствии с этими канонами окружающая действительность, природа должны быть «исправлены», «улучшены» под кистью художника. Вместе с тем в русской Академии работа над натурой (прежде всего рисование и лепка с натурщиков) занимала значительное место в системе обучения. В 1764 г. Академия принимает новый устав. Закладывается новое здание. При Академии открывается Воспитательное училище, куда принимают учиться с малолетнего возраста. На открытии этой «новой» Академии выступил поэт А.П. Сумароков, говоривший о воспитательной и просветительской миссии искусства и художников. М.В. Ломоносов, избранный почетным членом Академии художеств, выразил эту же мысль такими словами: «...благополучны вы, сыны Российские, что можете преуспевать в похвальном подвиге ревностного учения и представить перед очами просвещенные Европы проницательное остроумие, твердое рассуждение и ко всем искусствам особливую способность нашего народа...»
Ведущим направлением Академии становится классицизм, как это было характерно и для европейских академий. Его благородные идеалы, высокопатриотические, гражданственные идеи служения отечеству, его восхищение внутренней и внешней красотой человека, тяга к гармонии – все это питается философией просветительства, движения, возникшего в Англии и во Франции и ставшего скоро общеевропейским. Русские художники в этот период постигают опыт мировой художественной культуры. Пенсионерство, возрожденное Академией художеств, не было уже простым ученичеством, как это понималось в первой трети XVIII в., оно выглядело художественным сотрудничеством, принесшим русским мастерам быстрое европейское признание. В ином положении находятся теперь и иностранцы: это уже не мэтры-учителя, а мастера, чье место в художественной среде российского государства зависит прежде всего от их собственных дарований, от степени таланта.
Русский классицизм основан, конечно, на тех же принципах, что и классицизм европейский. Он привержен большим обобщениям, «общечеловеческому», стремится к гармонии, логике, упорядоченности. Идея Отечества, так же, как и руссоистская идея «естественного человека»,–основные в его программе. Высокогражданственное чувство сказалось и в архитектуре эпохи классицизма, и в монументальной скульптуре, в исторической живописи, и даже в таком как будто отдаленном от прямого выражения духа государственности жанре, каким был портрет. Но в русском классицизме отсутствует идея жесткого подчинения личности абсолютному государственному началу. В этом смысле русский классицизм ближе к самим истокам, к искусству античному, с его воплощением логического, разумного, естественности, простоты и верности природе как идеальных понятий, выдвигавшихся просветительской философией в качестве исходных критериев прекрасного. Античная и ренессансная система композиционных приемов и пластических форм пересматривалась русскими художниками применительно к национальным традициям, к русскому образу жизни.
Распространению классицистических идей во многом способствовала политическая ситуация первого десятилетия екатерининского времени, когда дворяне возлагали надежды на демократические преобразования общества и видели в Екатерине идеал «просвещенной монархини». В соответствии с идеями Просвещения, сопричастный судьбам родины гражданин по-настоящему счастлив, если живет в гармонии с природой, в союзе с которой он черпает свои нравственные силы. Русский классицизм овеян более теплым и задушевным чувством, менее официален, чем его европейский прототип. В своем развитии он проходит несколько этапов: ранний классицизм (60-е – первая половина 80-х годов), строгий, или зрелый (вторая половина 80-х – 90-е годы, вплоть до 1800 г.), и поздний, развивающийся до 30-х годов XIX в. включительно. Благодаря отсутствию суровой нормативности (общественные тенденции особенно ярко выражены в период раннего классицизма) параллельно ему развиваются иные стилевые направления. Так, ведет свое начало еще от эпохи рокайля псевдоготика; шинуазри («китайщина») и тюркери («туретчина») используют традиции Дальнего Востока и Передней Азии.
Уходящее рококо оказало определенное воздействие на формирующийся сентиментализм, который, в свою очередь, повлиял на романтизм XIX в. Но было бы глубоко ошибочным рассматривать историю искусства как простую смену одного стиля другим. В действительности этот процесс многообразен, а в русском XVIII в., как уже говорилось, он особенно сложен.
Рожденный на английской почве, сентиментализм в России имел самые тесные связи с предшествующим рококо, он углубил интерес к внутреннему миру человека, к «извивам» его души. Но вместе с тем он развивался в России в тесной связи с классицизмом, хотя и обладал собственной мировоззренческой природой. «Ампирные» портреты Боровиковского начала XIX в. с их культом семейственности, например, прямо перекликаются с сентименталистскими настроениями. «Сентиментальные» портреты Боровиковского 90-х годов в свою очередь близки во многом руссоистской идее «естественности», «естественного человека», характерной для программы классицизма. Взволнованность, как бы живое обращение к зрителю в образах позднего Левицкого или позднего Шубина, ощущение трагических предчувствий в баженовских постройках времени недолгого правления Павла I говорят о кризисе классицистического понимания гармонической личности, о существенных изменениях в эстетике, наступающих вместе с новым веком.
Наиболее полно классицизм выразил себя в архитектуре и монументально-декоративной пластике второй половины XVIII в. Крупнейшие мастера раннего классицизма А.Ф. Кокоринов (1726– 1772) и француз Ж.-Б. Валлен-Деламот (1729–1800) – авторы проекта здания Академии художеств в Петербурге (1764–1788), в котором учтено важное в градостроительном отношении местоположение здания на берегу Невы. В плане оно представляет собой почти квадрат, в который вписан круглый внутренний двор, а по углам –малые служебные. Цокольный и первый этажи являются неким рустованным пьедесталом, два верхних объединены общим ордером. Почти ничто уже не говорит об уходящем барокко, лишь средняя часть фасада с колоннами и статуями построена на игре выпуклых и вогнутых поверхностей. Все привычные для барокко элементы: филенки, тяги, наличники –строго упорядочены. Кокоринов стал первым профессором-руководителем архитектурного класса в Академии, здание которой он строил. Валлен-Деламоту принадлежит также здание Малого Эрмитажа (1764–1769) и фасады и арки лесных складов Адмиралтейства, так называемая «новая Голландия» (1765–1780), строительство которых было начато еще С. Чевакинским.
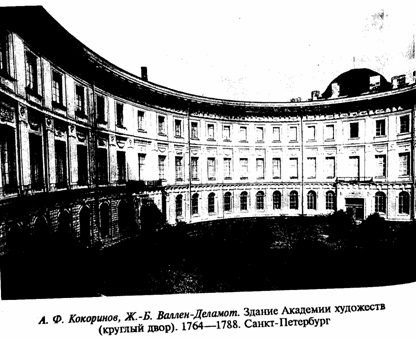
Важнейшей государственной задачей 60–80-х годов было оформление набережных основной водной артерии Петербурга – Невы. В связи с этим со стороны Невы была возведена ставшая потом столь знаменитой ограда Летнего сада (1771–1786), автором которой считаются Ю.М. Фельтен (1730–1801) и его помощник П. Егоров. В ней сохранено то же сочетание черного металла и золоченых деталей, как и в типично барочной ограде Большого Царскосельского дворца. Но вместо подвижного, изменчивого, свободного и прихотливого узора в решетке Летнего сада господствует вертикаль: вертикально стоящие пики пересекают прямоугольные рамы, равномерно распределенные массивные пилоны поддерживают эти рамы, подчеркивая своим ритмом общее ощущение величавости и покоя. Фельтену принадлежит также здание Старого Эрмитажа (1771–1787) и галерея-переход над Зимней канавкой (1783–1784). Как и многие современники, Фельтен занимался переделкой интерьеров Большого Петергофского дворца (Белая столовая, Тронный и Чесменский залы), сохранившихся в «фельтеновском варианте» до Великой Отечественной войны. Тронный зал при Фельтене был украшен знаменитым конным портретом Екатерины II кисти Эриксена. Аванзал украшали картины на темы знаменитой победы русского флота над турецким (отсюда название зала Чесменский). В честь Чесменского же сражения Фельтен построил в 7 верстах от Петербурга по дороге в Царское Село в местности, носящей финское название Кикерикексен («Лягушачье болото»), Чесменский дворец (1774–1777) и Чесменскую церковь (1777– 1780). Последняя – «готический» парафраз к устойчивому типу древнерусских храмов XVII в. под Москвой (в Уборах, Дубровицах, Филях). Исполненная в красном кирпиче с белокаменными деталями, церковь представляет собой в плане четырехлистник с полукружиями апсид по центру всех сторон.
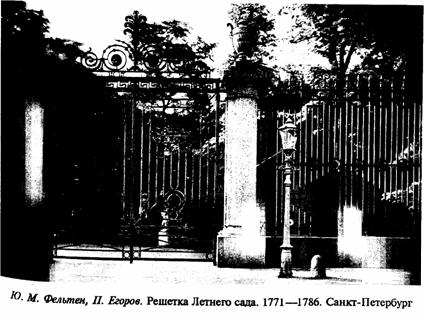
Данью упоминавшемуся увлечению «китайщиной» является Китайский дворец в Ораниенбауме (г. Ломоносов) под Петербургом, построенный Антонио Ринальди (ок. 1710–1794; в России – с 50-х годов). Китайский дворец (1762–1768) –изысканное здание, интерьер которого отделан в формах, близких к рококо, и украшен в «китайском» духе, – «чудо XVIII века», как его называли «мирискусники», с замечательными росписями бр. Бароцци и Торелли Ст., с присланным Тьеполо плафоном. В рокайльном духе были исполнены и парковые увеселения в Ораниенбауме, вроде Катальной горки (1762–1774). В ансамбле рокайльных интерьеров огромную роль играет сочетание разных материалов, разнообразие фактур: живописные панно, лак, фарфор, стеклярус, вышивка, позолота, мрамор. Все это мы видим в Китайском дворце и Фарфоровом кабинете Катальной горки.
Несколько позже Ринальди строит в Петербурге Мраморный дворец (1768–1785), названный так потому, что нижний этаж его облицован гранитом, а два верхних, объединенных коринфскими пилястрами и полуколоннами,– цветным олонецким мрамором. В этот период архитектуре вообще свойственно использование естественного материала, тонкое понимание красоты разных пород камня. Мраморный дворец был подарен Екатериной графу Григорию Орлову, когда он уходил в отставку. С именем Орлова связана и работа Ринальди в Гатчине, где архитектор начал строить дворец (1766–1772), после смерти Орлова (1783) отданный императрицей наследнику, великому князю Павлу Петровичу. Уже при Павле дворец был перестроен В. Бренной, но тонкий, изысканный вкус Ринальди, его руку можно увидеть в интерьерах Колонного и Белого залов. Много работал Ринальди и в Царском Селе, где им воздвигнуты Катульский обелиск, Чесменская колонна, Орловские ворота (все – в 70-е годы).
По праву величайшим мастером русского классицизма, чьи работы способствовали признанию русского зодчества в Европе, художником необычайной фантазии, оказавшим огромное влияние на развитие не только практического зодчества, но и архитектурной теории, был Василий Иванович Баженов (1737/38–1799), и это при том, что большинство его проектов даже не было осуществлено. Он вырос в Московском Кремле, где его отец был псаломщиком одной из церквей, учился вместе с М.Ф. Казаковым в архитектурной команде Ухтомского, затем в гимназии при Московском университете. В 1756 г. был отправлен в Петербург в учение к Савве Чевакинскому. Окончив в 1760 г. Академию художеств (относительно которой по праву заявлял, что она «мною первым началась...»), Баженов поехал пенсионером во Францию и Италию. Живя за границей, он пользовался такой известностью, что был избран профессором Римской, членом Флорентийской и Болонской академий, а по возвращении в Россию в 1762 г. получил звание академика. Но на родине судьба его сложилась трагически. Дважды императрица сама прерывала осуществление его главнейших проектов: Кремлевского дворца (1767–1773) и дворцово-паркового ансамбля в Царицыне под Москвой (1775–1785). В этих работах Баженов дал совершенно новое по сравнению с серединой века толкование темы городского и загородного дворцов. Его проект Кремлевского Дворца подразумевал реконструкцию всего Кремля. Это был, по сути, проект нового центра Москвы. В него входили царский дворец (нижний ярус которого вместе с откосом холма образовывал мощный цоколь, а главный фасад выходил на Москву-реку), Коллегии, Арсенал, Театр, площадь, задуманная наподобие античного форума, с трибунами для народных собраний. Ансамбль Иоанновской площади со знаменитыми кремлевскими соборами и колокольней Ивана Великого естественно вливался, по идее архитектора, в новую планировку. Сам Кремль благодаря тому, что Баженов решил продолжить три улицы проездами на территорию дворца, органично соединялся с городскими ансамблями. Зодчий сумел использовать в архитектурном образе особенности данной местности, и грандиозные фасады в баженовском проекте то огибают кремлевские холмы, то возносятся на гигантских пьедесталах. Потрясает своей фантазией решение главного зала с целыми «рощами», как назвал их один исследователь, коринфских колонн. Феерия и грандиозность баженовских образов недаром напоминает величественные фантазии Пиранези.
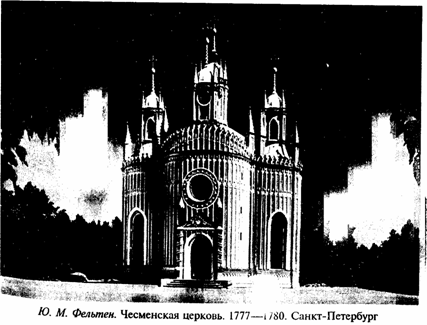
В 1773 г. состоялась торжественная закладка дворца, на которой Баженов произнес свою знаменитую речь, характеризующую его как передового художника-мыслителя, умеющего учиться у национальной, древнерусской архитектуры. Но уже в 1775 г. работы были прекращены. Екатерину не устраивало конструктивное решение в целом.
По сути, по той же причине императрица велела срыть ряд корпусов дворцово-паркового ансамбля Царицыно, а возведение нового дворца поручила Казакову. Но и этот дворец не был завершен.
Баженовский ансамбль в Царицыне составлял единое целое с окружающим корпуса парком. Называя свой преднамеренный уход от норм классики «готикой», Баженов подразумевал прежде всего древнерусские традиции, которые он глубоко и творчески сумел претворить в этом ансамбле. В зодчестве Древней Руси были заимствованы Баженовым строительные материалы – сочетание кирпичной постройки с белокаменными деталями. От баженовского замысла остались Фигурные ворота и Фигурный мост, Полуциркульный дворец, Оперный дом, Хлебный дом (кухня), восьмигранный Кавалерский корпус. Умению располагать здание в природной среде Баженов учился у древнерусских зодчих. Это прекрасно видно на примере дома П.Е. Пашкова (1784–1786, старое здание РГБ) в Москве, расположенного на откосе высокого холма, напротив Кремля, у впадения Неглинки в Москву-реку,–одного из самых красивых домов столицы и по сей день.
Баженов принимал участие в начальном варианте проектирования Михайловского (Инженерного) замка в Петербурге и двух павильонов около него, задуманных как пропилеи, ведущие на территорию замка (1798–1801). Дальнейшая разработка проекта и его осуществление принадлежат В.Ф. Бренне. Баженов был одним из крупнейших деятелей русского просвещения, размах творчества его был огромен: замыслы реорганизации Академии художеств, организация картинной галереи, создание «Модельного дома» – основного проектного центра Москвы и центра русской теоретической мысли в архитектуре, «партикулярной Академии», как ее называл сам Баженов, участие в переводе Витрувия, обращение к древнерусскому наследию и пр. С его творчеством как архитектора связывается становление и утверждение классицизма.
Вместе с Баженовым участвовал в процессе становления русского классицизма Матвей Федорович Казаков (1738–1812). Он наиболее яркий выразитель московской школы зодчества, недаром появилось такое выражение «казаковская Москва». Казаков учился в школе Ухтомского, не был пенсионером и античные и ренессансные памятники изучал по чертежам, увражам и моделям. Большой школой для него была совместная работа с пригласившим его Баженовым над проектом Кремлевского Дворца. В Кремле Казаков создает и самостоятельную, очень значительную постройку – здание Сената (Присутственные места, 1776–1787). Сенат представляет собой почти равносторонний треугольник, одна сторона которого параллельна кремлевской стене, выходящей на Красную площадь. Парадный круглый зал находится в глубине у самой вершины треугольника. Замкнутый, соответственно также треугольный по форме, двор разделен двумя корпусами на три части, отделяя центральный парадный двор от двух служебных угловых. Внешне центры фасадов отмечены дорическими портиками, а ротонда в парадном дворе – изогнутой по дуге дорической колоннадой. Купол парадного зала, кстати, играет большую роль во всем ансамбле Красной площади.

Ренессансные идеи гармонии и покоя, воспринятые русскими классицистами, Казаков воплощает в типе ротонды. Примером такого ясного, конструктивного решения является церковь Филиппа Митрополита (1777–1788), с ее просторным светлым интерьером, в которой купол опирается на свободно стоящую колоннаду. С творчеством Казакова во многом связан расцвет зрелого, или строгого, классицизма. Среди построек этого периода можно назвать Колонный зал Благородного собрания (середина 1780-х годов), в котором центральное пространство, предназначенное для торжественных церемоний, выделено коринфской колоннадой, а состояние праздничности усилено сверканием многочисленных люстр и подсветкой потолка.

Излюбленный прием ротонды, украшенной кольцом колонн (в данном случае ионических), использован Казаковым в одной из крупнейших последних работ мастера – здании Голицынской больницы (1796–1801). Сочетание трехэтажного корпуса с боковыми флигелями и большим садом позади – принцип, которым Казаков широко пользовался и при постройке жилых домов (например, дом И.И. Демидова в Гороховом переулке, 1789–1791; дом М.П. Губина на Петровке, 90-е годы). Вообще Казаков развивал оба типа особняка: по красной линии и в глубине двора. Напомним также, что Казаков – создатель здания Московского университета, к сожалению, сгоревшего в 1812 г. и восстановленного Д. И. Жилярди уже с большими изменениями.
Третий крупнейший зодчий второй половины XVIII в.– Иван Егорович Старов (1744–1808). Как и Баженов, он учился сначала в гимназии при Московском университете, затем в Академии художеств и был пенсионером во Франции и Италии. В духе раннего классицизма решены его некоторые загородные усадьбы (Никольское-Гагарино под Москвой, 1773–1776). В эти же годы он возводит в Петербурге Троицкий собор Александро-Невской лавры на месте старого, начатого еще при Петре и предназначенного теперь служить мавзолеем Александра Невского (1774–1790). Отсюда сохраненный им тип трехнефной базилики с куполом и двумя башнями-колокольнями. Благодаря реконструкции Старовым подъезда к Лавре, въездных ворот и площади около них был создан целостный ансамбль, который включил в себя архитектуру начала и конца столетия и завершил Невскую перспективу. Но самое значительное сооружение Старова –Таврический дворец (1782–1789). Он возник в то время, когда (после пугачевского восстания) сама Екатерина предпочитала роли просвещенной монархини роль «первой помещицы». В этих новых условиях акцент в архитектуре делается на строительстве не общественных зданий, а городских дворцов или усадеб. Ощущением радости жизни, ее разнообразием, богатством красок, форм, пространства веет от этого лучшего создания Старова. Его Таврический дворец – огромная городская усадьба Г.А. Потемкина – предназначен для торжественных приемов и пиршеств. Главный корпус размещен в глубине парадного двора. Главный зал, которому закругленные торцы придают овальную форму, делит весь комплекс интерьеров на две части: с одной стороны –комнаты, объединенные купольным залом, с другой – зимний сад. Экстерьер здания очень скромен, но он скрывает роскошь и даже некоторую преднамеренную театральность интерьеров. К сожалению, многое в его комплексе изменило время. Исчез канал, прорытый перед дворцом и позволявший подъезжать к зданию прямо с Невы. Не сохранился и зимний сад, где стояла беседка со статуей Екатерины работы Шубина. Но дух высокого искусства ощущается в общем облике дворца и по сей день.
Для Демидовых выполнена Старовым усадьба в Тайцах под Петербургом (70–80-е годы).
В 80–90-е годы в русскую архитектуру строгого стиля входят такие зодчие, как Кваренги, Львов, Камерон. С 1780 г. в Петербурге работает итальянец Джакомо Кваренги (1744–1817). Приехавший в Россию на 36-м году жизни, воспитанный на античных и ренессансных памятниках своей родины, он более всего почитал творчество и теорию великого итальянского архитектора эпохи Возрождения Палладио. В России Кваренги начал изучать ее национальное, древнее зодчество и проникся проблемами и задачами русского искусства, творчески перерабатывая палладианские идеи. Основная его деятельность протекала в Петербурге. Трехчастной схеме здания, состоящего из центрального корпуса и двух флигелей, соединенных с ним галереями, Кваренги дает множество толкований. Центр композиции выделяется портиком. Кваренги построил здание Академии наук (1783–1789), знаменующее собой начало зрелого классицизма. Фасады здания не декорированы, есть только строгие треугольные фронтончики-сандрики над оконными проемами. Основной центр выделен восьмиколонным ионическим портиком, парадность которого усиливается благодаря типично петербургскому крыльцу с лестницей на два «всхода». Принцип усадьбы (главный дом в глубине парадного двора) применен в Ассигнационном банке (1783–1789). В 80-е годы Кваренги строит в Зимнем дворце «Лоджии Рафаэля» и сооружает Эрмитажный театр, в котором он, отступая от традиционных для XVIII в. ярусов лож, расположил места амфитеатром, по образцу знаменитого театра Палладио в Виченце недалеко от Венеции. В 1792–1796 гг. Кваренги строит Александровский дворец в Царском Селе, где основным мотивом становится мощная колоннада коринфского ордера. Одной из замечательных построек Кваренги было здание Смольного института (1806–1808), который имеет четкую рациональную планировку в соответствии с требованиями учебного заведения. План его типичен для Кваренги: центр фасада украшен величественным восьмиколонным портиком, парадный двор ограничен крыльями здания и оградой. В честь возвращения русской гвардии из Парижа в 1814 г. по проекту Кваренги были воздвигнуты из временных материалов Нарвские триумфальные ворота, позже переведенные В. П. Стасовым в более прочный материал (кирпич, металл) и установленные на другом месте.


В конце 70-х годов в Россию приехал архитектор Чарлз Камерон (1743–1812), шотландец по происхождению, много изучавший итальянские памятники и прославившийся капитальным увражем «Термы римлян». Его талант проявился главным образом в изысканных дворцово-парковых загородных ансамблях, где Камерон показал свой удивительный дар в оформлении интерьеров, понимание гармонии архитектуры и природы, чувство единого стиля. В Царском Селе Камерон создает комплекс из галереи, получившей имя ее создателя – Камероновой, примыкающего к ней двухэтажного здания: Агатовых комнат (второй этаж) и Холодных бань в первом этаже и висячего сада – напоминание об античности рядом с блеском и пышностью барокко Екатерининского дворца (ансамбль Камерона прямо примыкает ко дворцу). Он строит комплекс на сопоставлении и контрасте. Так, корпус Агатовых комнат очень легок, что подчеркивается портиком из колонн ионического ордера(заметим, что Камерон всегда использовал греческие, а не римские типы ордеров), а отделанный рустом фасад Холодных бань преднамеренно тяжел и величествен. Так же противопоставлен верх и низ Камероновой галереи. Высочайший вкус проявил Камерон в отделке некоторых залов Екатерининского дворца («Зеленая столовая», «Лионская гостиная», личные комнаты Екатерины – «Табакерка» и «Опочивальня»).

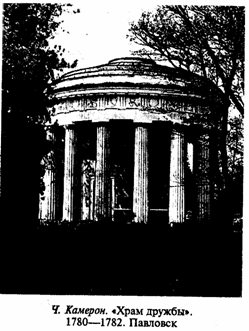
В более сдержанном духе строгого классицизма решает Камерон Павловский дворец (1782–1786), квадратный в плане, с центральным круглым «Итальянским» залом, увенчанным куполом, и галереями, соединяющими боковые флигеля и охватывающими пространство двора. Но его парковые сооружения (Колоннада Аполлона, «Храм дружбы») полны поэзии и вполне гармонируют по настроению с общим характером прекрасного «английского парка», т. е. парка подчеркнуто естественного, пейзажного, только что входившего в моду, автором которого явился знаменитый декоратор Пьетро Гонзага, работавший в Павловске несколько десятилетий.
Палладианские идеи в русской архитектуре развивал и Николай Александрович Львов (1751–1803), занятия которого зодчеством были лишь одной из сторон его многогранной деятельности (архитектор, рисовальщик, гравер, поэт, музыкант, фольклорист, теоретик искусства, горный инженер и пр.). В 80–90-е годы он строил много церквей (собор св. Иосифа в Могилеве, Борисоглебский монастырь в Торжке, церкви в Арпачеве и селе Никольское – его родных местах в Тверской губернии). В Петербурге он оставил о себе память Невскими воротами Петропавловской крепости – главными воротами, выходящими на Неву; зданием Почтового стана с огромным внутренним двором для почтовых карет (теперь это застекленный зал Главпочтамта); церковью и колокольней на Шлиссельбургском тракте, названными петербуржцами «Кулич» и «Пасха», и Приоратским дворцом в Гатчине.
Последний по времени зодчий XVIII в. Винченцо Бренна (1747–1818) по праву считается архитектором Павла и Марии Федоровны. По приезде в Россию он превращается из живописца-декоратора, чему учился на родине, в декоратора-архитектора, а с середины 80-х годов, отстранив Камерона, становится главным руководителем всех работ в Павловске, придав павловскому дворцу и его интерьерам, по остроумному замечанию Грабаря, «воинственный дух Марса». Бренна много и плодотворно работал в Гатчине – во дворце и парке. Но главная его работа – Михайловский замок в Петербурге (1798–1801). Оттолкнувшись от общего решения и плана гениального Баженова, он создал свой тип настоящего крепостного замка, в котором его владелец император Павел I успел прожить только 40 дней.
Во второй половине XVIII в. начинается настоящий расцвет русской скульптуры. Она развивалась медленно, но русская просветительская мысль и русский классицизм явились величайшими стимулами для развития искусства больших гражданственных идей, масштабных проблем, что и обусловило интерес к ваянию в этот период. Шубин, Гордеев, Козловский, Щедрин, Прокофьев, Мартос – каждый сам по себе был ярчайшей индивидуальностью, оставил свой след в искусстве. Но всех их объединяли общие творческие принципы, которые они усвоили еще у профессора Никола Жилле, с 1758 по 1777 г. возглавлявшего в Академии класс скульптуры, общие идеи гражданственности и патриотизма, высокие идеалы античности. Их образование строилось прежде всего на изучении античной мифологии, слепков и копий с произведений античности и Ренессанса, в годы пенсионерства – подлинных произведений этих эпох. Они стремятся воплотить в мужском образе черты героической личности, а в женском – идеально-прекрасное, гармоничное, совершенное начало. Но русские скульпторы толкуют эти образы не в отвлеченно-абстрактном плане, а вполне жизненно. Поиск обобщенно-прекрасного не исключает всей глубины постижения человеческого характера, стремления передать его многогранность. Это стремление ощутимо в монументально-декоративной пластике и станковой скульптуре второй половины века, но особенно – в жанре портрета.
Его наивысшие достижения связаны прежде всего с творчеством Федота Ивановича Шубина (1740–1805), земляка Ломоносова, прибывшего в Петербург уже художником, постигшим тонкости косторезного дела. Окончивший Академию по классу Жилле с большой золотой медалью, Шубин уезжает в пенсионерскую поездку, сначала в Париж (1767–1770), а затем в Рим (1770–1772), ставший с середины века, с раскопок Геркуланума и Помпеи, вновь центром притяжения для художников всей Европы. Первое произведение Шубина на родине – бюст А.М. Голицына (1773, ГРМ, гипс) свидетельствует уже о полной зрелости мастера. Вся многогранность характеристики модели раскрывается при круговом ее осмотре, хотя несомненно есть и главная точка обозрения скульптуры. Ум и скептицизм, духовное изящество и следы душевной усталости, сословной исключительности и насмешливого благодушия – самые разные стороны характера сумел передать Шубин в этом образе русского аристократа. Необычайное разнообразие художественных средств помогает создать такую неоднозначную характеристику. Сложный абрис и разворот головы и плеч, трактовка разнофактурной поверхности (плащ, кружева, парик), тончайшая моделировка лица (надменно прищуренные глаза, породистая линия носа, капризный рисунок губ) и более свободно-живописная – одежды – все напоминает стилистические приемы барокко. Но как сын своего времени он трактует свои модели в соответствии с просветительскими идеями обобщенно-идеального героя. Это свойственно для всех его работ 70-х годов, что позволяет говорить о них как о произведениях раннего классицизма. Хотя заметим, что в приемах начинающего Шубина прослеживаются черты не только барокко, но даже рококо. Со временем в образах Шубина усиливается конкретность, жизненность, острая характерность.
Шубин редко обращался к бронзе, он работал в основном в мраморе и всегда использовал форму бюста. И именно в этом материале мастер показал все многообразие и композиционных решений, и приемов художественной обработки. Языком пластики он создает образы необычайной выразительности, исключительной энергии, совсем не стремясь к их внешней героизации (бюст генерал-фельдмаршала З.Г. Чернышева, мрамор, ГТГ). Он не боится снизить, «заземлить» образ фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского, передавая характерность его совсем не героического круглого лица со смешно вздернутым носом (мрамор, 1778, Гос. художественный музей, Минск). У него нет интереса только к «внутреннему» или только к «внешнему». Человек у него предстает во всем многообразии своего жизненного и духовного облика. Таковы мастерски выполненные бюсты государственных деятелей, военачальников, чиновников.
Из работ 90-х годов, наиболее плодотворного периода в творчестве Шубина, хочется отметить вдохновенный, романтический образ П.В. Завадовского (бюст сохранился только в гипсе, ГТГ). Резкость поворота головы, пронзительность взора, аскетичность всего облика, свободно развевающиеся одежды – все говорит об особой взволнованности, обнаруживает натуру страстную, незаурядную. Метод трактовки образа предвещает эпоху романтизма. Сложная многогранная характеристика дана в бюсте Ломоносова, созданном для Камероновой галереи, чтобы он стоял там рядом с бюстами античных героев. Отсюда несколько иной уровень обобщения и антикизации, чем в других произведениях скульптора (бронза, 1793, Камеронова галерея, г. Пушкин; гипс, ГРМ; мрамор, Академия наук; два последних – более ранние). Шубин относился к Ломоносову с особым пиететом. Гениальный русский ученый-самоучка был близок скульптору не только как земляк. Шубин создал образ, лишенный всякой официальности и парадности. Живой ум, энергия, сила чувствуются в его облике. Но разные ракурсы дают разные акценты. И в другом повороте мы читаем на лице модели и грусть, и разочарование, и даже выражение скепсиса. Это тем более удивительно, если предположить, что работа не натурная, Ломоносов умер за 28 лет до этого. В исследованиях последнего времени высказывается мысль о возможности натурных зарисовок, не дошедших до нас.

Столь же многогранен и в этой многогранности – противоречив созданный скульптором образ Павла I (мрамор, 1797, бронза, 1798. ГРМ; бронза, 1800, ГТГ). Здесь мечтательность уживается с жестким, почти жестоким выражением, а уродливые, почти гротескные черты не лишают образ величественности.
Шубин работал не только как портретист, но и как декоратор. Он исполнил 58 овальных мраморных исторических портретов для Чесменского дворца (находятся в Оружейной палате), скульптуры для Мраморного дворца и для Петергофа, статую Екатерины II-законодательницы (1789–1790). Несомненно, что Шубин – крупнейшее явление в русской художественной культуре XVIII столетия.
Вместе с отечественными мастерами в России работал французский скульптор Этьенн-Морис Фальконе (1716–1791; в России – с 1766 по 1778), который в памятнике Петру I на Сенатской площади в Петербурге выразил свое понимание личности Петра, ее исторической роли в судьбах России. Фальконе работал над памятником 12 лет. Первый эскиз был исполнен в 1765 г., в 1770 г.– модель в натуральную величину, а в 1775–1777 гг. происходила отливка бронзовой статуи и готовился постамент из каменной скалы, которая после обрубки весила около 275 т. В работе над головой Петра Фальконе помогала Мари-Анн Колло. Открытие памятника состоялось в 1782 г., когда Фальконе уже не было в России, и завершал установку памятника Гордеев. Фальконе отказался от канонизированного образа императора-победителя, римского цезаря, в окружении аллегорических фигур Добродетели и Славы. Он стремился воплотить образ созидателя, законодателя, преобразователя, как сам писал в письме к Дидро. Скульптор категорически восставал против холодных аллегорий, говоря, что «это убогое обилие, всегда обличающее рутину и редко гений». Он оставил лишь змею, имеющую не только смысловое, но и композиционное значение. Так возник образ-символ при всей естественности движения и позы коня и всадника. Вынесенный на одну из красивейших площадей столицы, на ее общественный форум, памятник этот стал пластическим образом целой эпохи. Конь, вставший на дыбы, усмиряется твердой рукой могучего всадника. Заложенное в общем решении единство мгновенного и вечного прослеживается и в постаменте, построенном на плавном подъеме к вершине и резком обрыве вниз. Художественный образ слагается из совокупности разных ракурсов, аспектов, точек обзора фигуры. «Кумир на бронзовом коне» предстает во всей своей мощи прежде, чем можно заглянуть ему в лицо, как верно заметил некогда Д.Е. Аркин, он воздействует сразу же своим силуэтом, жестом, мощью пластических масс, и в этом проявляются незыблемые законы монументального искусства. Отсюда и свободная импровизация в одежде («Это одеяние героическое», – писал скульптор), отсутствие седла и стремян, что позволяет единым силуэтом воспринимать всадника и коня. «Герой и конь сливаются в прекрасного кентавра» (Дидро).

Голова всадника –это также совершенно новый образ в иконографии Петра, отличный от гениального портрета Растрелли и от вполне ординарного бюста, исполненного Колло. В образе Фальконе господствует не философская созерцательность и задумчивость Марка Аврелия, не наступательная сила кондотьера Коллеони, а торжество ясного разума и действенной воли.
В использовании естественной скалы в качестве постамента нашел выражение основополагающий эстетический принцип просветительства XVIII в. – верности природе.
«В основе этого произведения монументальной скульптуры лежит высокая идея России, ее юной мощи, ее победного восхождения по дорогам и кручам истории. Вот почему памятник порождает в зрителе множество чувств и мыслей, близких и отдаленных ассоциаций, множество новых образов, среди которых неизменно главенствует возвышенный образ героического человека и народа-героя, образ родины, ее мощи, ее славы, великого исторического призвания» (Аркин Д.Е. Э.-М. Фальконе//История русского искусства. М., 1961. Т. VI. С. 38).
В 70-е годы рядом с Шубиным и Фальконе работает ряд молодых выпускников Академии. Годом позже Шубина ее окончил и вместе с ним проходил пенсионерство Федор Гордеевич Гордеев (1744– 1810), творческий путь которого был тесно связан с Академией (он даже некоторое время был ее ректором). Гордеев –мастер монументально-декоративной скульптуры. В его ранней работе –надгробии Н.М. Голицыной видно, как умели глубоко проникнуться идеалами античной, именно греческой, пластики русские мастера. Подобно тому как в средневековый период они творчески восприняли традиции византийского искусства, так в период классицизма они постигли принципы эллинистической скульптуры. Знаменательно, что для большинства из них освоение этих принципов и создание своего собственного национального стиля классицизма шло негладко, и творчество почти каждого из них можно рассматривать как «арену борьбы» барочных, иногда и рокайльных тенденций и новых, классицистических. Причем совсем не обязательно эволюция творчества свидетельствует о победе последних. Так, первая работа Гордеева «Прометей» (1769, гипс, ГРМ, бронза – Останкинский музей) и два надгробия Голицыных (фельдмаршала А.М. Голицына, героя Хотина, 1788, ГМГС, Санкт-Петербург, и Д.М. Голицына –основателя знаменитой больницы, построенной Казаковым, 1799, ГНИМА, Москва) несут в себе черты, связанные с барочной традицией: сложность силуэта, экспрессию и динамику («Прометей»), живописность общего композиционного замысла, патетические жесты аллегорических фигур (Добродетели и Военного гения –в одном надгробии. Горя и Утешения –в другом).
Надгробие же Н.М. Голицыной напоминает древнегреческую стелу. Барельефная фигура плакальщицы, взятая меньше чем в натуру, дана в профиль, расположена на нейтральном фоне и вписана в овал. Величавость и торжественность скорбного чувства передают медлительные складки ее плаща. Выражением благородной сдержанности веет от этого надгробия. В нем начисто отсутствует барочная патетика. Но в нем нет и абстрактной символичности, нередко присутствующей в произведениях классицистического стиля. Скорбь здесь тиха, а печаль –трогательно-человечна. Лиризм образа, затаенное, глубоко спрятанное горе и отсюда интимность, задушевность становятся характерными чертами именно русского классицизма. Еще яснее принципы классицизма проявились в барельефах на античные сюжеты для фасадов и интерьеров Останкинского дворца (Москва, 80–90-е годы).
В творчестве замечательного русского скульптора редкого разнообразия интересов Михаила Ивановича Козловского (1753– 1802) можно также проследить эту постоянную «борьбу», сочетание черт барокко и классицизма, с перевесом одних стилистических приемов над другими в каждом отдельном произведении. Его творчество – наглядное свидетельство того, как русские мастера перерабатывали античные традиции, как складывался русский классицизм. В отличие от Шубина и Гордеева пенсионерство Козловского началось прямо с Рима, а затем уже он переехал в Париж. Первыми его работами по возвращении на родину были два рельефа для Мраморного дворца, сами названия которых: «Прощание Регула с гражданами Рима» и «Камилл, избавляющий Рим от галлов» – говорят о большом интересе мастера к античной истории (начало 80-х годов).
В 1788 г. Козловский вновь направляется в Париж, но уже в качестве наставника пенсионеров, и попадает в самую гущу революционных событий. В 1790 г. он исполняет статую Поликрата (ГРМ, гипс), в которой тема страдания и порыва к освобождению звучит патетически. Вместе с тем в судорожном движении Поликрата, усилии его прикованной руки, смертно-мученическом выражении лица есть некоторые черты натуралистичности.
В середине 90-х годов по возвращении на родину начинается самый плодотворный период в творчестве Козловского. Главная тема его станковых произведений (а он работал преимущественно в станковой пластике) – из античности. Его «Пастушок с зайцем» (1789, мрамор. Павловский дворец-музей), «Спящий амур» (1792, мрамор, ГРМ), «Амур со стрелой» (1797, мрамор, ГТГ) и другие говорят о тонком и необычайно глубоком проникновении в эллинистическую культуру, но вместе с тем лишены какой-либо внешней подражательности. Это скульптура XVIII столетия, и именно Козловского, с тонким вкусом и изысканностью воспевшего красоту юношеского тела. Его «Бдение Александра Македонского» (вторая половина 80-х годов, мрамор, ГРМ) воспевает героическую личность, тот гражданский идеал, который соответствует морализующим тенденциям классицизма: полководец испытывает волю, противясь сну; свиток «Илиады» около него – свидетельство его образованности. Но античность для русского мастера никогда не была единственным объектом изучения. В том, как естественно передано состояние полудремоты, оцепенелости полусна, есть живое острое наблюдение, во всем видно внимательное изучение натуры. А главное – нет всепоглощающего господства разума над чувством, сухой рациональности, и это, на наш взгляд, одно из существеннейших отличий русского классицизма.

Козловского-классициста, естественно, увлекает тема героя, и он исполняет несколько терракот по мотивам «Илиады» («Аякс с телом Патрокла», 1796, ГРМ). Скульптор дает свое толкование эпизоду из петровской истории в статуе Якова Долгорукого, приближенного царя, возмутившегося несправедливостью одного указа императора (1797, мрамор, ГРМ). В статуе Долгорукого скульптор широко применяет традиционные атрибуты: горящий факел и весы (символ истины и правосудия), поверженную маску (коварство) и змею (низость, зло). Развивая героическую тему, Козловский обращается к образу Суворова: сначала мастер создает аллегорический образ Геркулеса на коне (1799, бронза, ГРМ), а затем памятник Суворову, задуманный как прижизненная статуя (1799–1801, Петербург). Памятник не имеет прямого портретного сходства. Это скорее обобщенный образ воина, героя, в военном костюме которого соединены элементы вооружения древнего римлянина и средневекового рыцаря (а по новейшим сведениям – и элементы формы, которую хотел, но не успел ввести Павел). Энергией, мужеством, благородством веет от всего облика полководца, от его гордого поворота головы, изящного жеста, с которым он поднимает меч. Легкая фигура на постаменте цилиндрической формы создает с ним единый пластический объем. Соединяя мужественность и грацию, образ Суворова отвечает и классицистическому нормативу героического, и общему пониманию прекрасного как эстетической категории, характерному для XVIII в. В нем создан обобщенный образ национального героя, и справедливо исследователи относят его к наиболее совершенным творениям русского классицизма наряду с фальконетовским «Медным всадником» и монументом Минину и Пожарскому Мартоса.
В эти же годы Козловский работает над статуей Самсона – центральной в Большом каскаде Петергофа (1800–1802). Вместе с лучшими скульпторами – Шубиным, Щедриным, Мартосом, Прокофьевым – Козловский принял участие в замене статуй петергофских фонтанов, выполнив один из самых ответственных заказов. В «Самсоне», как его традиционно принято называть, соединились мощь античного Геракла (по некоторым новейшим исследованиям это и есть Геракл) и экспрессия образов Микеланджело. Образ исполина, разрывающего пасть льву (изображение льва входило в герб Швеции), олицетворял непобедимость России.
Во время Великой Отечественной войны памятник был похищен фашистами. В 1947 г. скульптор В.Л. Симонов воссоздал его на основании сохранившихся фотодокументов.
Сверстником Козловского был Федос Федорович Щедрин (1751–1825). Он прошел те же этапы обучения в Академии и пенсионерства в Италии и Франции. Исполненный им в 1776 г. «Марсий» (гипс, НИМАХ), как и гордеевский «Прометей» и «Поликрат» Козловского, полон бурного движения и трагического мироощущения. Подобно всем скульпторам эпохи классицизма, Щедрин увлечен античными образами («Спящий Эндимион», 1779, бронза, ГРМ; «Венера», 1792, мрамор, ГРМ), проявляя при этом особо поэтическое проникновение в их мир. Он также участвует в создании скульптур для петергофских фонтанов («Нева», 1804). Но наиболее значительные работы Щедрина относятся уже к периоду позднего классицизма. В 1811–1813 гг. он работает над скульптурным комплексом захаровского Адмиралтейства. Им выполнены трехфигурные группы «Морских нимф», несущих сферу, – величественно-монументальные, но и грациозные одновременно; статуи четырех великих античных воинов: Ахилла, Аякса, Пирра и Александра Македонского – по углам аттика центральной башни. В адмиралтейском комплексе Щедрин сумел подчинить декоративное начало монументальному синтезу, продемонстрировав прекрасное чувство архитектоничности. Скульптурные группы нимф четко читаются своим объемом на фоне гладких стен, а фигуры воинов органично завершают архитектуру центральной башни. С 1807 по 1811 г. Щедрин работал также над огромным фризом «Несение креста» для конхи южной апсиды Казанского собора.

Его современник Иван Прокофьевич Прокофьев (1758–1828) в 1806–1807 гг. создает в Казанском соборе фриз на аттике западного проезда колоннады на тему «Медный змий». Прокофьев – представитель уже второго поколения академических скульпторов, последние годы он занимался у Гордеева, в 1780–1784 гг. учился в Париже, затем уехал в Германию, где пользовался успехом как портретист (сохранились лишь два портрета Прокофьева четы Лабзиных, 1802, оба терракота, ГРМ). Одна из ранних его работ – «Актеон» (1784, ГРМ) свидетельствует о мастерстве уже вполне сложившегося художника, умело передающего сильное, гибкое движение, упругий бег юноши, преследуемого собаками Дианы. Прокофьев преимущественно мастер рельефа, продолжающий лучшие традиции античной рельефной пластики (серия гипсовых рельефов парадной и чугунной лестниц Академии художеств; дома И.И. Бецкого, дворца в Павловске – все 80-е годы, за исключением чугунной лестницы Академии, исполненной в 1819–1820 гг.). Это идиллическая линия в творчестве Прокофьева. Но мастеру были знакомы и высокие драматические ноты (уже упоминавшийся фриз Казанского собора «Медный змий»). Для Петергофа Прокофьев исполнил в пару к щедринской «Неве» статую «Волхова» и группу «Тритоны».

Иван Петрович Мартос (1754–1835) прожил очень долгую творческую жизнь, и самые его значительные работы были созданы уже в XIX столетии. Но надгробия Мартоса, его мемориальная пластика 80–90-х годов по своему настроению и. пластическому решению принадлежат XVIII веку. Мартос сумел создать образы просветленные, овеянные тихой скорбью, высоким лирическим чувством, мудрым приятием смерти, исполненные, кроме того, с редким художественным совершенством (надгробие М.П. Собакиной, 1782, ГНИМА; надгробие Е.С. Куракиной, 1792, ГМГС).
В живописи наиболее последовательно принципы классицизма, естественно, воплотил исторический жанр. Античные и библейские сюжеты (которые преимущественно и считались историческим жанром) и национальная история трактовались в ней соответственно гражданственным и патриотическим идеалам просветительства. Один из первых выпускников Академии, прошедший пенсионерство в Париже и Риме, автор пособия «Изъяснение краткой пропорции человека.... для пользы юношества, упражняющегося в рисовании...», по которому впоследствии учились целые поколения художников, Антон Павлович Лосенко (1737–1773) был и первым русским профессором класса исторической живописи. Детские годы Лосенко провел на Украине, затем пел в придворном хоре и был одним их трех мальчиков, «спавших с голоса», которые были отданы в обучение И. Аргунову. Вскоре Лосенко попал в Академию, откуда в качестве пенсионера был направлен в Париж. Здесь им были написаны картины, сразу получившие признание: «Чудесный улов рыбы» и «Авраам приносит в жертву сына своего Исаака» (обе ГРМ). Лосенко принадлежит первое произведение из русской истории – «Владимир и Рогнеда». В ней Лосенко избрал тот момент, когда новгородский князь Владимир «испрашивает прощения» у Рогнеды, дочери полоцкого князя, на землю которого он пошел огнем и мечом, убил ее отца и братьев, а ее насильно взял в жены. Общий характер картины, конечно, театрально-условный: Рогнеда театрально страдает, возведя глаза горб; Владимир, написанный, кстати, с драматического актера Дмитриевского, не менее театрален. Похожи на барельефы античных стел фигуры плачущих служанок. Но само обращение к русской истории и толкование темы прежде всего как осуждение произвола было очень характерно для эпохи высокого национального подъема второй половины XVIII столетия. Имеются и другие более мелкие, но важные находки. Лосенко внимательно изучал не только русскую историю, но и древнерусские костюмы (насколько это позволяло тогдашнее знание), искал наиболее характерные типажи (интересны фигуры двух воинов– «новгородских мужиков» –в правом верхнем углу композиции). При всей декламационности и патетике в картине Лосенко много искреннего чувства.
Помимо живописи художник занимался преподаванием в Академии, некоторое время был даже ее директором. Административные обязанности отнимали много сил у слабого здоровьем Лосенко. Фальконе писал Екатерине: «Преследуемый, утомленный, опечаленный, измученный тьмою академических пустяков, ни в какой Академии не касающихся профессора, Лосенко не в состоянии коснуться кисти: его погубят несомненно. Он первый искусный художник нации, к этому остаются нечувствительны, им жертвуют...» (Сборник императорского Русского исторического общества. СПб., 1876. Т. XVII. С. 123). Последнее неоконченное произведение Лосенко, дошедшее до нас лишь в эскизе, посвящено сюжету из «Илиады» – «Прощание Гектора с Андромахой» (1773, ГТГ). На этом произведении можно проследить, как «внедрялись» классицистические принципы в русскую живопись. Композиция строится наподобие многофигурной у мизансцены классицистического спектакля. Действие разыгрывается на фоне величественной колоннады, участники сцены образуют кулисы, позволяющие сосредоточиться на главных персонажах – Гекторе, патетический жест которого призван показать его готовность пожертвовать личным счастьем во имя долга, и Андромахе, в склоненной фигуре которой четко читается предчувствие трагического исхода. В системе изображения превалирует линеарно-пластическое начало. Это означает, что главными выразительными средствами являются рисунок и светотень; в классицистических произведениях цвет не столько лепит, сколько раскрашивает форму, его не случайно называют локальным, ибо он как бы замкнут в определенных границах, не рефлектирует с соседними, не взаимодействует с ними. Форма объема создается не столько цветом, тонкой разработкой внутренних его градаций, сколько светотенью. Именно при помощи светотени и создается почти пластическая осязаемость изображаемых предметов в произведении классицизма.

Во второй половине 70-х – в 80-е годы в жанре исторической живописи работает и такой тонкий мастер, как П.И. Соколов (1753–1791). Соколов в основном писал на сюжеты из античной мифологии («Меркурий и Аргус», 1776, ГРМ; «Дедал привязывает крылья Икару», 1777, ГТГ).

Затем начинается новый этап в развитии исторической живописи. Он связан с именем Г.И. Угрюмова (1764–1823), основной темой произведений которого является борьба русского народа: с кочевниками («Испытание силы Яна Усмаря», 1796–1797, ГРМ), с немецкими рыцарями («Торжественный въезд в Псков Александра Невского после одержанной им над немецкими рыцарями победы», 1793, ГРМ), за безопасность своих границ («Взятие Казани», 1797– 1799, ГРМ) и пр. Угрюмов занимался и портретным жанром, был прекрасным педагогом, преподававшим в Академии более 20 лет, из класса которого вышли такие мастера, как Кипренский, Шебуев, Егоров. Следует отметить, что и Лосенко, и Соколов, и Угрюмов были блестящие рисовальщики, и их графическое наследие, как и многих скульпторов, например Козловского, по праву принадлежит к высшим достижениям русской графики XVIII в.
Исторический жанр более чем какой-либо другой демонстрирует развитие принципов классицизма, трактованных, однако, очень широко. В этом искусстве много живописности и динамики, унаследованных от уходящего барокко; одухотворенности, привнесенной сентиментализмом и еще ранее рокайлем; на него в начале XIX в. оказал определенное влияние романтизм. Наконец, неизменным и постоянным было воздействие реалистических традиций национальной художественной культуры.
Наибольших успехов живопись второй половины XVIII в. достигает в жанре портрета, что не кажется удивительным, если мы вспомним предыдущие этапы. Поколение художников, выступившее на рубеже 60–70-х годов, в кратчайший срок выдвинуло русский портрет в ряд лучших произведений мирового искусства. Одним из таких мастеров был Федор Степанович Рокотов (1735/36–1808). Обстоятельства жизни Рокотова и по сей день не все выяснены. Рокотов, видимо, происходил из крепостных семейства князей Репниных и, возможно, через них познакомился с И.И. Шуваловым, куратором Московского университета и Академии художеств, который и способствовал его принятию на службу в Академию. Рокотов получил вольную и стал одним из прославленных художников XVIII столетия.
Рокотов вошел в русское искусство в 60-е годы, когда творчество Антропова, с которым у него в ранний период имеются явные точки соприкосновения, было в расцвете. Но даже его ранние работы по сравнению со зрелым Антроповым показывают, что русское искуство вступило в новую фазу развития: характеристики портретируемых, полные лиризма и глубокой человечности, становятся многогранными, выразительный язык необыкновенно усложняется. Слава к Рокотову приходит скоро. Уже в 1764 г. в его мастерской, по свидетельству современника, стоят десятки портретов, «в которых были окончены одни головы». Он умел создавать законченную характеристику модели в три сеанса («по троекратном действии»). «Ты, почти играя, ознаменовал только вид лица и остроту зрака ево, в тот час и пламенная душа ево, при всей ево нежности сердца на оживленном тобою полотне не утаилася...», –писал его современник о портрете поэта А.П. Сумарокова (ГИМ). Петербургский период Рокотова длился до середины 60-х годов. Это период исканий, еще тесных связей с искусством середины века. Портрет вел. кн. Павла Петровича (1761, ГРМ), девочки Юсуповой (там же) еще полны рокайльных реминисценций. В Москве начинается «истинный Рокотов», здесь он трудился почти 40 лет и за это время успел «переписать всю Москву», добавим, всю просвещенную Москву, передовое русское дворянство, людей, близких ему по складу мышления, по нравственным идеалам. Здесь он и создал некий портрет-тип, соответствующий гуманистическим представлениям передовой дворянской интеллигенции о чести, достоинстве, «душевном изяществе». Этот просветительский идеал Рокотову проще было создать именно в Москве, в среде глубоко и широко мыслящих просвещенных людей его окружения, вдали от официального духа столицы, жизнью в которой он тяготился. Властитель дум в 60–70-х годах М. Херасков писал:
Не титла славу нам сплетают,
Не предков наших имена.
Одни достоинства венчают.
И честь венчает нас одна...
Будь мужествен ты в ратном поле,
В дни мирны добрый гражданин,
Не чином украшайся боле,
Собою украшай свой чин.
М. Херасков. Знатная порода

В эти годы складывается определенный тип камерного портрета (Рокотов редко писал парадные, и то в основном в начале творчества) и определенная манера письма, определенный строй художественных средств. Это обычно погрудное изображение. Фигура повернута по отношению к зрителю в 3/4, объемы создаются сложнейшей светотеневой лепкой, тонко сгармонизированными тонами. Модель почти не комментируется сложными атрибутами, антураж не играет никакой роли, иногда вовсе отсутствует. Характеристика никогда не однозначна. Неуловимыми средствами Рокотов умеет передать меняющийся облик модели: насмешливость скептического Майкова, ленивую улыбку и состояние умиротворения в облике «Неизвестного в треуголке» (оба – 70-е годы, ГТГ), тонкую задумчивость, духовное изящество, хрупкость внутреннего мира на прекрасном лице А.П. Струйской (1772, ГТГ) или молодого Артемия Воронцова (конец 1760-х годов, ГТГ). Искание тона –так можно обозначить основную живописную задачу Рокотова в 70-е годы. Образ строится в определенном тональном ключе на непринужденном слиянии легких, тающих мазков. Динамичность движений кисти создает впечатление мерцающего красочного слоя, его подвижности, прозрачной дымки, особой сложности воздушного пространства, воздушной среды. В портрете «Неизвестного в треуголке» золотистые тона вспыхивают на черном и на черно-коричневом фоне, сверкают даже в серебре головного убора, все пронизано светом, выхватывающим это пухлое, милое в своей неправильности лицо. Сказать: черное домино, розовый камзол, белый платок и жабо – значит необычайно огрубить, просто исказить живопись портрета, его потрясающую живописную феерию. В другом портрете – Струйской –сложность душевной жизни модели совсем не декларируется, она также передана тонкими цветовыми нюансами, отсюда какая-то недосказанность характеристики, очарование тайны, что и позволило поэту, уловившему эти особенности рокотовской кисти, сказать:
Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза –как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Н. Заболоцкий. Портрет

Одухотворенность образов, изысканность мастерства и вместе с тем очень простая композиция, скромные размеры характерны для портретов Рокотова.
На рубеже 70–80-х годов под воздействием новых эстетических воззрений становятся заметны новые качества рокотовской манеры. Открытость и прямота в портретируемых лицах сменяется выражением непроницаемости, сдержанности душевных переживаний, светской выдержки. В характеристике модели, в композиции и колорите как бы изменяются акценты. Композиция становится все наряднее, праздничнее, фигура чаще всего вписывается в овал. Она также повернута в 3/4, но осанка иная – горделивая, поза статичная. Бант или букет украшают платье, усиливая этим впечатление необыденности, праздничности. Фактура сглаженная, почти эмалевая, мастерство доведено до рафинированности. Лицо светится на темном фоне, его контуры тают, оно как бы выхвачено из мрака. Но это лицо лишено уже дружественности, теплоты, характерной для портретов 70-х годов. Так, о портрете двадцатилетней Новосильцовой (1780, ГТГ) исследователь Э.Н. Ацаркина верно сказала: «Почти пугающее всеведение взгляда». Это же можно отметить и в настороженно-внимательном взоре красавицы Санти (1785, ГРМ). С 80-х годов можно говорить о «рокотовском женском типе»: гордо поднятая голова, удлиненный разрез чуть прищуренных глаз, рассеянная улыбка – все это неизбежно приводит к некоторой потере конкретности. Но и на этом пути у такого мастера, как Рокотов, были большие удачи, например портрет В.Н. Суровцевой (конец 80-х годов, ГРМ), притягательная сила которого заключена в его одухотворенности и тонкой задушевности. Рокотов показывает, что есть иная красота, чем внешняя, он создает представление о женской красоте прежде всего как о красоте духовной. Легкая грусть и даже некоторая душевная усталость не исключают большой внутренней сдержанности, высокого достоинства и глубины чувства.
Одним из величайших художников XVIII столетия, сумевшим наиболее полно выявить основные особенности и принципы, сам дух живописи своего века, был Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735–1822). Левицкий –создатель и парадного портрета (недаром говорили, что он запечатлел в красках весь «екатеринин век», переписал всех екатерининских вельмож), и великий мастер камерного портрета. В каждом из них он является художником, необычайно тонко чувствующим национальные черты своих моделей, независимо от того, пишет он царедворца или юную «смолянку».
Художник родился на Украине, в семье священника и гравера, выходца из Киевской духовной академии, этой «русской Сорбонны», как ее называл А.Н. Бенуа. Возможно, отец и стал первым учителем Левицкого. Некоторые исследователи предполагают, что оба они работали над росписью Андреевского собора в Киеве под началом А.П. Антропова. Антропов и явился настоящим учителем Левицкого, у него он проучился несколько лет. Левицкий оставался в самых близких с ним отношениях до смерти последнего.
С рубежа 50–60-х годов начинается петербургская жизнь Левицкого, навсегда отныне связанная с этим городом и Академией художеств, в которой он многие годы руководит портретным классом. Слава к Левицкому пришла в 1770 г., когда на академической выставке экспонировались шесть его портретов. Среди них портрет архитектора и одного из авторов здания Академии художеств А.Ф. Кокоринова (1769, ГРМ). В традиционной композиции парадного портрета с непременным условным жестом, которым модель «указует» на лежащий на бюро чертеж Академии, в праздничном одеянии, сшитом к открытию Академии и стоившем Кокоринову годового жалованья, как гласят документы, Левицкий создал образ совсем не однозначно-парадный. Подлинная художественность пронизывает это изображение, начиная от лица, в котором соединены чарующая простота, даже простодушие со скептической усмешкой, со следами усталости, разочарования и даже тяжелого внутреннего раскола, до виртуозно написанной одежды. Пространственность композиции усиливается поворотом фигуры в ?, жестом руки, повторением светло-серого цвета: светлыми пятнами ткани, наброшенной на кресло, светлым кафтаном, серо-белой бумагой чертежа на бюро. Колорит построен на оливковых, жемчужных, золотистых, сиреневых оттенках, приведенных в целостность сиреневой дымкой в сочетании с теплым золотом. С поразительной материальностью, с каким-то чувственным восхищением передает художник богатство предметной фактуры: шелк, мех, шитье, дерево и бронзу. Светотеневые градации очень тонкие, свет то вспыхивает, то погасает, оставляя предметы второго плана в рассеянном освещении. Живописная маэстрия усиливает сложную характеристику модели в целом.
В схеме парадного портрета решен и другой образ Левицкого – П.А. Демидова (1773, ГТГ). Портрет подписной и датированный, как и портрет Кокоринова. Потомок тульских кузнецов, возведенных Петром в ряд именитых людей, баснословный богач, странный чудак, даже самодур, П.А. Демидов вместе с тем разделял многие взгляды русских просветителей, сам был одаренным человеком – ботаником, садоводом, оставившим драгоценный гербарий Московскому университету, которому он, кстати, даровал немалые суммы, филантропом: он основал Коммерческое училище и Воспитательный дом в Москве. На фоне последнего и изображена модель на портрете Левицкого. Тем же величественным жестом, что и Кокоринов, Демидов «указует» на горшок с цветами. Его поза – обычная для парадного портрета, но одет он в шлафрок, на голове колпак, опирается он на лейку, весь его вид не соответствует традиционной схеме репрезентативного портрета, а главное, ей не соответствует выражение лица: это не светская маска, на нем нет ни тени самодовольства, сословной горделивости. Глядя на это лицо с грустным, насмешливым, скептическим выражением, начинаешь понимать и его покаянные мысли, и его тайную благотворительность, весь его непростой внутренний мир, который он так тщательно оберегал от посторонних глаз за ширмой чудачеств и экстравагантных поступков. В портрете Демидова тоже проявляется поразительное чувство формы, пространственной глубины, материальности, но еще более акцентирована пластическая лепка, отсутствуют смягченные контуры, нежная дымка портрета Кокоринова. Жемчужный жилет, панталоны, оторочка халата, белые чулки контрастируют с оранжевым теплого тона халатом: живопись сочная, материальная, плотная, в ней нет никакой жесткости.

В 70-е годы Левицкий создает целую серию портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц – «смолянок» (все в ГРМ). Возможно, сама Екатерина, занимавшаяся вопросами женского воспитания и образования, сделала Левицкому заказ на портреты, долженствующие увековечить в живописи «новую породу» людей. Портреты получили позднее в искусстве название сюиты, хотя Левицкий не задумывал их как нечто цельное и писал несколько лет (1772–1776). Однако общий замысел в них все-таки проявился, он определен общей темой –юности, искрящегося веселья, особой жизнерадостности мироощущения. Девочки разных возрастов изображены просто позирующими (самые маленькие – Давыдова и Ржевская), танцующими (Нелидова, Борщова, Лёвшина), в пасторальной сцене (Хованская и Хрущева), музицирующими (Алымова), с книгой в руках (Молчанова). Эта единый художественный ансамбль, объединенный одним светлым чувством радости бытия и общим декоративным строем. В некоторых портретах изображение помещается на нейтральном фоне (Ржевская и Давыдова, Алымова), другие – на фоне театрального задника, условного театрального пейзажа, изображающего парковую природу. Мастер и не скрывает, что его фигуры в двойном портрете Хованской и Хрущевой или в портрете Борщовой прямо поставлены на маленькую сценическую площадку. Это сознательная, чуть ироническая «неправда маскарада», как писал А.Н. Бенуа, «ненастоящность» придает еще больше очарования этим «очаровательным дурнушкам», некрасивым красавицам с милыми неправильными лицами, «в заученных позах нелепого танца на дорожках парка». Все своеобразие русского рокайля видел исследователь в подобном письме, которое он не побоялся сравнить с фрагонаровским и с импрессионистическим. Цельности колорита Левицкий достигает теперь не господством одного доминирующего тона, а изысканной гармонией отдельных цветов, просвечиванием одного цвета из-под другого. Цветом лепится объем, подчеркивается трехмерность, вещественность. Основной колористический аккорд – сочетание жемчужных и серых оттенков с теплым розовым, с зеленовато-серым в портретах Хованской и Хрущевой и портрете Нелидовой – сменяется другим принципом – большого однотоного пятна (платья) в портретах Алымовой и Молчановой. Но это однотонное пятно полно тонкой разнообразной игры оттенков и света. Не просто иллюзорно, а образно воссоздана фактура, передана материальность всего изображенного предметного мира. Пластический, линейный ритм, композиция и колористическое решение создают изумительную декоративность всей серии, строят образы, незабываемые в своем очаровании юности. Левицкий вообще любил писать молодых на протяжении всей своей творческой жизни.

«Смолянки» – это парадные портреты; в портрете М.А. Дьяковой – будущей жены архитектора Н.А. Львова, к кругу которого принадлежал Левицкий,–он создает образ раскрывающейся жизни. Это портрет камерный, интимный. В отличие от зыбкости, недоговоренности, неуловимости рокотовских образов, характеристики Левицкого всегда конкретно ясны, осязательны, фактура в них вещественна, но эта ясность и зримая полнота вещей не лишает образы большой поэтичности, что и видно в портрете Дьяковой. Более того, здесь ощутимо как бы участие художника в душевной жизни модели, трогательно-бережное отношение к этой расцветающей жизни, то, что можно было бы назвать современным словом «сопереживание». Эти качества приносит Левицкий на смену затаенности, изменчивости, имперсональной одухотворенности образов Рокотова.
80-е годы – годы наибольшей славы Левицкого. В его камерных портретах заметно берет верх трезвое, объективное отношение к модели. Характеристика индивидуальности становится более обобщенной, в ней подчеркиваются типичные черты. Левицкий остается большим психологом, блестящим живописцем, но по отношению к модели он теперь как бы более сторонний наблюдатель. Появляется известная доля унификации художественных средств выражения: однообразие улыбки, нарочитый румянец, определенная система складок; проще становятся колористические соотношения, шире используются лессировки (портрет Дьяковой-Львовой, 1781, ГТГ; портрет А.С. Бакуниной, 1782, ГТГ). Четкость пластических объемов, определенность линейных контуров, большая гладкость живописи – это черты, которые усиливаются под воздействием укрепляющейся классицистической системы. Однако среди этих поздних портретов есть большие творческие удачи мастера (портрет А.В. Храповицкого, 1781, ГРМ; пленительные портреты детей Воронцовых, 90-е годы, ГРМ, и пр.).
Много Левицкий занимается и репрезентативным портретом, среди главных моделей была сама императрица, которую художник писал неоднократно; наиболее известно ее изображение в образе законодательницы, повторенное несколько раз самим автором и другими художниками и описанное Державиным, большим другом и единомышленником Левицкого, в оде «Видение Мурзы». В портрете «Екатерина II-законодательница в храме богини Правосудия» (1783, ГРМ, вариант–ГТГ) императрица представлена «первой гражданкой отечества», служительницей законов. В ней передовые люди видели идеальное воплощение образа просвещенного монарха, призванного мудро управлять державой. Аллегорический язык портрета –дань классицизму: Екатерина указывает на алтарь, где курятся маки –символ сна (так и она сжигает себя на алтаре служения отечеству), над нею –статуя Правосудия, у ног –орел, символ мудрости и божественной власти, в проеме колонн – корабль как символ морской державы. Интенсивность цвета с преобладанием холодных локальных тонов, скульптурность форм, подчеркнутая пластичность, четкое деление на планы – все это черты уже зрелого классицизма.
Жизнь Левицкого была длинной, и творчество его многообразно. Он оставил большой след в русском искусстве и как прекрасный педагог.
Третий замечательный художник рассматриваемого периода – Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825). Он родился на Украине, в Миргороде, учился иконописи у отца, рано начал писать образа и портреты. Перелом в его судьбе наступил, когда он был замечен Львовым, который в свите Екатерины проезжал через Украину в Крым (Боровиковский исполнил два панно в одной из комнат временного путевого дворца, предназначенного для приема императрицы). В 1788 г. Боровиковский оказался в Петербурге, прожил восемь лет в семье Львовых, в построенном Львовым же Почтовом стане, как и Левицкий, навсегда распростился с Украиной ради Петербурга. Возможно, у Левицкого, как недолго и у Лампи Старшего, Боровиковский получил свои первые уроки в столице. В эти годы Боровиковский много занимается портретной миниатюрой на металле, картоне, дереве (например, «Лизынька и Дашенька», 1794, ГТГ). В 90-е годы мастер создает портреты, в которых в полной мере выражены черты нового направления в искусстве – сентиментализма. Самый первый в ряду этих портретов –портрет O.K. Филипповой, жены помощника архитектора Воронихина (начало 90-х годов, ГРМ). Она изображена в утреннем платье с небрежно распущенными волосами, с розой в руке, на фоне паркового пейзажа. Конечно, вся эта «безыскусственность» портретов вполне искусно сделана, но само появление подобных изображений говорит об интересе к тонким «чувствованиям», к передаче душевных состояний, к частной жизни человека, мечтающего или просто отдыхающего и находящегося в единении с природой. Все «сентиментальные» портреты Боровиковского – это изображения модели в простых нарядах, иногда в соломенных шляпках, с яблоком или цветком в руке (портрет Е.Н. Арсеньевой, 1796, ГРМ). Лучшим в этом ряду является портрет М.И. Лопухиной. Рядом с победной, искрометной жизнерадостностью Арсеньевой образ восемнадцатилетней Марии Ивановны Лопухиной кажется напоенным тишиной и томностью. Горделивая небрежность и изящество позы, своенравное выражение задумчивого лица – все построено на сложнейших цветовых нюансах, в основном голубого и зеленого, на прихотливой игре сиреневых тонов, на перетекании одного тона в другой, строящих форму, на тончайших светотеневых градациях, из которых слагается гармоническая соподчиненность всех частей, на певучей плавности линий. А в итоге возникает совершенно чарующий образ, высокоодухотворенный, как бы слитый с природой. Пейзаж в портрете несет огромную эмоциональную и смысловую нагрузку. Портрет этот позже вызвал к жизни стихи Я. Полонского:
Она давно прошла, и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье –тень любви, и мысли –тень печали...
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела;
И будет этот взгляд, и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить – страдать – прощать – молчать...

Идея сентиментализма нашла выражение и в портрете торжковской крестьянки Христиньи, кормилицы в доме Львовых, в котором Боровиковский при всей пасторальности и идилличности сумел создать живой человеческий образ, полный особой сердечности, наивной прелести и чистоты.
Новые эстетические взгляды эпохи проявились в полной мере даже в изображении императрицы. Теперь это не репрезентативный портрет «законодательницы» со всеми императорскими регалиями, а изображение обыкновенной женщины в шлафроке и чепце на прогулке в Царскосельском парке. Такой ее представил Боровиковский на портрете 1795 г. (ГТГ; авторское повторение – конца 1800-х годов, ГРМ), исполненном, кстати сказать, также не без участия Львова, но уже тогда, когда русское просвещенное дворянство жило иными образами и идеалами. Портрет этот имел большой успех и позже. В 20-х годах XIX в. с него была сделана Уткиным гравюра; знаменательно, что Пушкин писал Екатерину в «Капитанской дочке» под впечатлением этого портрета Боровиковского.

Боровиковскому принадлежат и многочисленные парадные, в основном мужские, портреты (А. Б. Куракина, ок. 1802, ГТГ; Павла, 1800, ГРМ; персидского принца Муртазы-Кулихана, 1796, ГРМ), в которых он умеет сочетать неизбежную для такого жанра условность композиции с правдивой характеристикой модели.
Рубеж XVIII–XIX вв. – время наивысшей славы Боровиковского и одновременно появления новых тенденций в искусстве. Классицизм достигает своих высот, и в портретах Боровиковского этого времени наблюдается стремление к большей определенности характеристик, строгой пластичности, почти скульптурности форм; к усилению объемности, к постепенному исчезновению мягкой и изнеженной живописности, на смену которой приходит звучность плотных цветов. Если двойной портрет сестер Гагариных (1802, ГТГ) представляет девочек с нотами и гитарой еще на фоне пейзажа, то более поздние композиции Боровиковский решает на нейтральном фоне. Культ трогательной дружбы, семейного очага, крепких родственных уз, близкий и идеалам сентиментализма, приобретает теперь некоторый оттенок декларативности и демонстративности (портрет А.И. Безбородко с детьми, ГРМ; А.Е. Лабзиной с воспитанницей, ГТГ, оба – 1803; Г.Г. Кушелева с детьми, Новгородский историке-архитектурный и художественный музей-заповедник; Л.И. Кушелевой с детьми – собр. Гофмансталя, Лондон,– оба сер. 1800-х годов; мадам де Сталь, портрет М.И. Долгорукой – оба нач. 1800-х годов XIX в., ГТГ). Это целая галерея портретов, которые можно было бы назвать портретами ампирными. Последние произведения Боровиковского, поражающие высоким реализмом в передаче старческих лиц (портрет Д.П. Трощинского, 1819, ГТГ; более ранний портрет Н. Голицыной, ГРМ), свидетельствуют о жизненной силе его таланта.
Во второй половине века в России успешно работали и иностранцы – швед Александр Рослин, француз Жан-Луи Вуаль.
Бытовой жанр не получил развития в стенах Академии. В 70–80-е годы существовал только так называемый класс домашних упражнений, закрытый в конце века. В итоге все, что было сделано интересного в этом жанре, было сделано без прямого участия Академии. Временем рождения русского бытового жанра можно было бы считать вторую половину 60-х годов, когда Иван Фирсов написал, будучи в Париже, небольшую картину под названием «Юный живописец» («В мастерской юного художника», ГТГ), изображающую маленькую шаловливую девочку, под надзором сестры (или матери?) позирующую юному художнику, – если бы она не была написана совсем в духе Шардена. Первыми художниками, создавшими русский бытовой жанр, стали Михаил Шибанов и Иван Ерменев.
Крепостной художник из крестьян Шибанов (? – после 1789) был известен как портретист. В 70-х годах он написал два полотна из крестьянской жизни – «Крестьянский обед» (1774, ГТГ) и «Празднество свадебного договора» («Сговор», 1777, ГТГ). В обеих картинах, исполненных по композиции и колориту в соответствии с академическим историческим жанром, художник сумел передать человеческое достоинство своих персонажей, их высокую нравственность. Образы написанных им крестьян очень правдивы, исполнены художником явно с натуры. В «Крестьянском обеде» перед нами усталый пожилой человек, молодой отец, старая женщина. Идеализирован лишь образ молодой матери с ребенком на руках, вызывающий ассоциации с образом мадонны. А в «Сговоре» фигуры еще более индивидуализированы, достаточно взглянуть на довольное лицо жениха и весело улыбающихся сватов. И крестьянскую трапезу в ее замедленном, почти ритуальном ритме, и торжественную минуту «сговора», и красивые национальные костюмы Шибанов изображает очень празднично. В картине нет ни одной детали, способной вызвать мысли о тяжести повседневной крестьянской жизни. Но он сумел избежать и этнографичности «костюмных» зарисовок, свойственных работам путешествующих по России иностранных художников. Это первое изображение крестьянства русским художником.
Еще мало изучено творчество Ерменева (1746/49–1797), хотя он по праву наряду с Шибановым может считаться первым русским жанристом. Окончив в 1767 г. Академию, он, как и все студенты этого выпуска, по невыясненным обстоятельствам получил аттестат только 4-й степени. Тем не менее Ерменев побывал в Париже. Совершенно особняком в русском искусстве XVIII в. стоит серия его акварелей, посвященная нищим («Поющие слепцы», «Крестьянский обед», «Нищие» и др., все, видимо, 1770-х годов, ГРМ). Чаще всего это изображение двух фигур в рост на фоне неба: нищая старуха и ребенок, нищий и поводырь – или одинокая фигура нищего. Низкий горизонт, крупный силуэт, ясность композиции, мерность ритма при некоторой театральности придают этим нищим в рубище черты подлинной монументальности. «Не жалкие отверженные люди, а грозная сила»,–так писал исследователь творчества Ерменева А. Савинов о персонажах акварелей Ерменева, открывающих перед нами еще одну грань искусства XVIII столетия.
В последней четверти XVIII в. приобрел черты самостоятельности пейзажный жанр. В 1776 г. Семен Федорович Щедрин (1745– 1804) стал первым профессором-руководителем пейзажного класса. Характер пейзажей самого Щедрина глубоко лирический и поэтический. Это в основном изображение окрестностей Петербурга: Павловска, Петергофа, Царского Села, Гатчины,–нерегулярные, так называемые английские, парки с их живописными речками, прудами, островами и павильонами. Истоками пейзажного жанра послужили ведута еще петровского времени (в гравюре) и фантастические пейзажные фоны в декоративных панно середины века. Пейзажи Щедрина, особенно ранние, во многом напоминают такие панно. Художник часто употребляет один и тот же прием: на переднем плане развесистое дерево, затем водное пространство, фоном служит архитектурное сооружение, которое обычно и дает наименование пейзажу («Вид на Гатчинский дворец с Длинного острова», 1796, ГТГ; «Вид на Большую Невку и дачу Строгановых», 1804, ГРМ). Четко прослеживается трехцветная схема, сложившаяся еще в западноевропейском классицистическом пейзаже. Постепенно вырабатывается образ безмятежно ясной, спокойной природы. Тихое течение вод, величавое движение облаков, руины, мосты, обелиски, пасущиеся стада, на этом фоне люди, созерцающие природу, находящиеся в единении с ней,– все окрашено чувством идиллическим, пасторальным, созвучно идеалу сентиментализма. Сочетание видового и декоративного начала сохранилось и в поздних работах Щедрина, в его панно для Михайловского замка, в Росписях загородного дома в Жерновке (конец 90-х годов). Из гравировально-ландшафтного класса Щедрина вышли прекрасные Мастера гравированного пейзажа – С.Ф. Галактионов, А.Г. Ухтомский, братья И.В. и К.В. Ческие и др.

Мастером акварельного пейзажа, запечатлевшим виды Кавказа, Крыма, Бессарабии, Украины, был Михаил Матвеевич Иванов (1748–1823). Во многих его картинах пейзаж – составная часть батальных сцен. Служа в штабе Г. Потемкина, он изображал места сражений русской армии, города, за которые только что шла битва («Штурм Измаила», 1788, ГРМ). С 1800 г. М. Иванов руководил батальным классом Академии художеств, с 1804 г., после смерти Семена Щедрина, – пейзажным.
Если Щедрина можно назвать родоначальником вообще национального пейзажа XVIII в., то Федор Алексеев (1753/54–1824) положил начало пейзажу города. По окончании Академии он был послан в Венецию учиться декоративной и в основном театрально-декоративной живописи, но по возвращении в Петербург главной темой его творчества становится пейзаж. Образ столицы, который четверть века спустя воплотил Пушкин в гениальных чеканных строках своей поэмы, складывался именно в эти годы, и Алексеев запечатлел его в живописи одним из первых. Это глубоко лирический образ особенного города, где «смешение воды со зданиями» (Батюшков), где грандиозность и величественность архитектуры не исключают ощущения призрачности. В пейзажах Алексеева уже нет той панорамности и того понимания перспективы, которое мы видим в работах художников первой половины века. Многому научившись у театральных живописцев, Алексеев так строит перспективу, что создается ощущение полной естественности и достоверности изображаемого («Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости», 1794, ГТГ). Он не боится вводить в пейзажи целые уличные сцены. Его впечатления обогащаются в путешествиях по Новороссии и Крыму (пейзажи Херсонеса, Николаева, Бахчисарая). В 1800 г. на полтора года он поселяется в Москве и создает серию пейзажей старого города, со средневековыми постройками Кремля, с многолюдством, теснотой, шумностью – совсем другой город, нежели «град Петров» («Парад в Московском Кремле. Соборная площадь», нач. 1800-х годов, ГИМ). Работа в Москве обогатила мир художника, позволила по-новому взглянуть и на жизнь столицы, когда он возвратился туда. В его петербургских пейзажах усиливается жанровость. Набережные, проспекты, баржи, парусники заполняются людьми. Меняется и манера. Живопись становится скульптурнее. Нарастают объемность и линейное начало, в колорите превалирует гамма холодных тонов. Одна из лучших работ этого периода – «Вид Английской набережной со стороны Васильевского острова» (1810-е годы, ГРМ). В ней найдена мера, гармоническое соотношение собственно пейзажа (основного мотива ранних петербургских работ) и архитектуры (преобладавшей в московских работах). Написанием этой картины завершилось складывание так называемого городского пейзажа. Величественная столица гигантской державы и вместе с тем шумный, живущий интенсивной частной жизнью город предстает в «Виде Адмиралтейства и Зимнего дворца от Первого Кадетского корпуса (1810-е годы. Павловский дворец-музей).

Совсем другие пейзажи – классицистические, итальянизированные –возникают под рукой Ф.М. Матвеева (1758–1826). Они величественны, но далеки от проблем, которые решала русская пейзажная живопись того времени, – создать правдивый, глубоко прочувствованный образ русской природы.
Русский пейзажный жанр конца XVIII в. развивался очень быстро. Были заложены основы национальной школы пейзажной живописи, созданы условия для успешного развития этого жанра в следующем столетии.
Во второй половине века работают замечательные мастера-граверы. С 60-х годов Гравировальная палата Академии наук постепенно уступает первенство в художественной гравюре Академии художеств. Г.Ф. Шмидт, приглашенный в Россию на 5 лет в 1757 г., оставил после себя руководство граверным классом своему ученику, «подлинному гению в гравюре», как он о нем отзывался, Евграфу Петровичу Чемесову. По свидетельству современников, Чемесов был также блестящим мастером перового рисунка. Годы руководства Чемесова граверным классом Академии были, по сути, временем его расцвета и интенсивного обучения учеников. Чемесов работал в основном в жанре портрета. Гравированный портрет развивается в конце столетия очень активно. Помимо Чемесова можно назвать рано умершего мастера резцовой гравюры И.А. Берсенева, работавшего в технике меццо-тинто (черная манера), И.А. Селиванова и особенно Г.И. Скородумова, известного пунктирной гравюрой, дававшей особые возможности «живописной» трактовки (И. Селиванов. Портрет вел. кн. Александры Павловны с оригинала В.П. Боровиковского, меццо-тинто; Г.И. Скородумов. Автопортрет, рисунок пером).

Рисунок в эти годы еще не стал самостоятельным видом графики, но ему уделялось много внимания, ибо в системе обучения Академии художеств рисунок был основой для постижения всех видов изобразительного искусства. Сохранилось великое множество замечательных рисунков живописцев, скульпторов и собственно граверов.
Следует отметить рисунки Лосенко, очень разнообразные, как специально учебные, так и вспомогательные к его композициям; исполненные в основном графитным или итальянским карандашом и мелом на серо-голубой бумаге, с широким использованием светотени, они соединяют в себе живое наблюдение с умением создать обобщенный образ необычайно лаконичными средствами (рисунки натурщиков, рис. граф. кар. и мелом «Путешествующие», рисунки к картине «Владимир и Рогнеда»).
Ученики Лосенко копировали эстампы, рисунки учителя – прекрасные образцы, на которых воспиталось не одно поколение художников. Лосенко, как уже говорилось, даже составил специальное руководство по рисунку, состоящее из таблиц и пояснительного текста.
Блестящим техническим исполнением отличаются рисунки П.И. Соколова, с их тающим контуром и тончайшими переходами от света к тени (рисунок драпировки – возможно, эскиз для надгробия).
Особое место занимают пейзажные рисунки: акварели М.М. Иванова, гуаши Семена Щедрина. Как живописные, так и графические пейзажи оказали большое влияние на ведущих мастеров русского гравированного и литографированного пейзажа первого десятилетия XIX в. Примером классицистического рисунка, ясного, изысканного и лаконично-строгого, были графические пейзажи Ф.М. Матвеева.
Особую страницу в графическом наследии второй половины XVIII в. занимают графические работы архитекторов (рисунки и офорты В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, Д. Кваренги, акварели И.Е. Старова) и скульпторов (блестящие по мастерству композиции М.И. Козловского, служебного назначения беглые зарисовки И. П. Прокофьева и пр.).
Понемногу начинает развиваться книжная графика. По-прежнему живет лубок на темы сказок, былин, басен или сатирического толка – ясная, доходчивая, народная картинка, имевшая самое широкое хождение. Центр лубочных изданий, в основном, Москва.
На протяжении XVIII столетия русская архитектура и русское изобразительное искусство развивались по законам иным, чем в Древней Руси, – по законам Нового времени. Это был очень непростой путь освоения законов общеевропейского развития в минимально короткие сроки, исчисляемые годами, а не веками, как это было в Западной Европе, в результате чего русская светская художественная культура заняла свое достойное место среди европейских школ, сохранив свою специфику и создав собственную систему как в жанровом, так и в типологическом отношениях.
Ваш комментарий о книге
Обратно в раздел культурология
|
|
